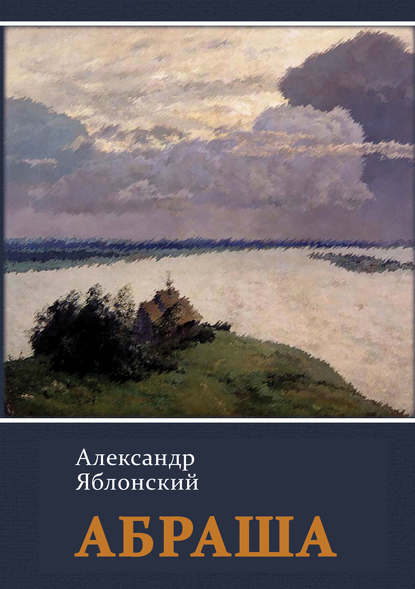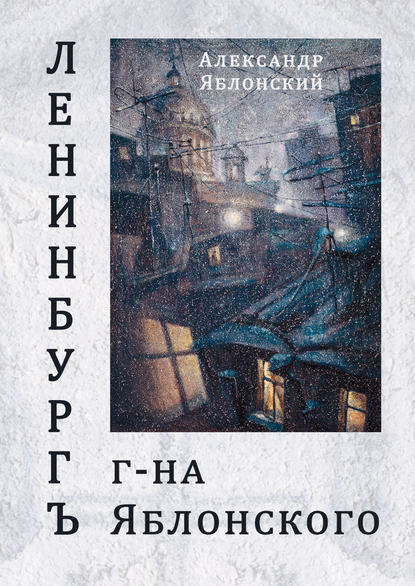
Полная версия
Ленинбургъ г-на Яблонского
С музыкальным ассортиментом была, видимо, напряженка. Поэтому сквозь дрему опять донеслось по поводу приезда в Ленинград вместо Петербурга. Песня не раздражала. Я стал к ней привыкать. Да и к Гурченко испытывал давнюю – с 1956 года – симпатию. В сущности, они с Моисеевым правы: куда я еду?
Назвать Ленинград Ленинградом уже нельзя. К Ленину охладели. Я тоже больших симпатий к нему не испытывал. Злой гений. Как и Петр. Но Ленинград любил. Я там родился. И был какой-то необъяснимый аромат в этом имени города. Ничего общего с суконным погонялом пролетарского вождя. Ленинградец – значит, человек особой культуры. Ленинградец – значит, не москвич. Значит, поздоровается и объяснит, как пройти. Значит, скорее всего, – блокадник. Значит, публика в любом уголке страны, решая, что выбрать: концерт мастеров «Москонцерта» или артистов Ленгосэстрады (потом – «Ленконцерта»), безоговорочно пойдет на концерт последних. Не потому, что артисты лучше, – город притягательнее. Значит, «я счастлив, что я – ленинградец, что в городе славном…» Однако сам голосовал за переименование, точнее, за возвращение подлинного имени, наивно полагая, что поиск утраченного времени может привести к адекватному результату.
Ленинградом уже не назвать. Но и «Петербург» в глотку не лезет. Если только «Бандитский Петербург». Разве может быть петербуржцем г-н (…), хотя он и родился в коммунальной квартире невдалеке от моей коммуналки? От дома Мурузи до Баскова переулка – три минуты на велике. В Басковом переулке – тогда пустынном, малолюдном, практически без автомобилей на проезжей части в вечернее время – я учился кататься на велосипеде. Папа бежал сзади и поддерживал. Иногда приходила мама посмотреть на мои успехи. Где-то около 50-го года… Разве может находиться Петербург, да и Ленинград особенно, в нынешней России, ласково принимающей европейских неонацистов?! Разве может быть губернатором Петербурга красномордый Иудеев-Питерский или бывший комсомольский вожак м-м Грицацуева?
Разные были губернаторы. Худые и полные, с усами, с бакенбардами, гладко выбритые, воины и чиновники, смышленые и глуповатые. Даже безграмотные были. Светлейший Римского и Российского государства князь и герцог Ижорский, тайный действительный советник, сенатор, Государственной военной коллегии Президент, генерал-губернатор губернии Санкт-Питер-Бурхской, генерал-фельдмаршал, а затем – генералиссимус, полный адмирал, кавалер орденов Св. апостола Андрея Первозванного, Св. Александра Невского, Белого Орла (Польша), ордена Слона (Дания), Черного Орла (Пруссия) и пр., и пр., и пр. – Александр Данилович Меншиков грамоты не знал. Академиком был. Это – да! Действительным членом Лондонского Королевского (академического) общества, о чем свидетельствует грамота, врученная 15 октября 1714 года и подписанная Исааком Ньютоном. Однако свою подпись герцог Ижорский выводил с трудом, всегда одинаково, заученным жестом. Господин академик читать и писать не умел. Не осилил. Надо отдать должное Светлейшему: при всей неуемной тяге к званиям, наградам, титулам и должностям, в длинном перечне всех бесчисленных регалий он ни разу не упомянул о принадлежности к академическому сообществу. Скромностью герцог не страдал, однако здравый смысл имел: засмеяли бы. Разные были градоначальники. Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов, который с Наполеоном тягался, и Павел Васильевич Голенищев-Кутузов, который декабристов вешал, Александр Николаевич Оболенский, у которого внучатый племянник Константин (Кирилл) Симонов в любимцах Сталина ходил, грассируя, и Иосиф Владимирович Гурко, под началом которого воевал на Балканах мой прадед; Треповы, папаша и сын, были: первый прославился благодаря выстрелу Веры Засулич, второй, будучи ещё ротмистром, – командой своему эскадрону «Смотри веселей!» во время похорон императора Александра Третьего («Кто этот дурак?» – спросил ошеломленный С. Ю. Витте), Архаров был – основатель «ордена архаровцев», и Салтыков – банный блюститель – был, были фон дер Пален и Кавелин, Милорадович и Игнатьев, Владимир Федорович фон дер Лауниц, бывший во время Балканской компании адъютантом И. В. Гурко и застреленный в декабре 1906 года террористом Евгением Кудрявцевым, и генерал от инфантерии Александр Аркадьевич Суворов, граф Рымникский, князь Италийский – внук великого полководца, сын красавца генерал-лейтенанта Аркадия Суворова, также графа Рымникского, утонувшего в реке Рымник при переправе – Судьба недобрая шутница! Миних был и Балк был… Русские, немцы, лифляндцы были, был крещеный еврей. Всякие были. Нечистые на руку – большинство, начиная с академика, герцога Ижорского. Безупречные были, как Федор Федорович Буксгевден, к примеру, или, в особенности, граф Петр Александрович Толстой, который вышел в отставку с должности петербургского военного губернатора обременённый крупными долгами (случай уникальный в истории российского института губернаторства). Долги сии образовались и возросли по причине того, что, по мере необходимости, губернатор докладывал свои личные деньги для завершения необходимых городу проектов; дом губернатора был всегда открыт для нуждающихся – неимущим женщинам выдавали, к примеру, от 5 до 25 рублей (не вдаваясь в расследование подлинности бедственного состояния). Помимо этого, граф Толстой – командир Гвардейского корпуса – завел обычай дарить (из личных средств, естественно!) именинникам – солдатам и унтерам гвардии – соответственно один рубль или два серебром. (Государь также дарил именинникам, но из средств Государственной казны, всем один рубль медью). Тут у графа никаких денег не хватило бы (генерал Багратион предупреждал ведь!), тем более что постепенно умники начали «справлять именины» по нескольку раз в год. Так что долги были превеликие. К концу жизни, выйдя в полную отставку и живя в своем имении Узкое под Москвой, граф Толстой занялся сельским хозяйством, особенно преуспевая в цветоводстве, шелководстве и в разведении мериносов. Эта деятельность была столь успешной, что со всеми долгами граф расплатился сполна. Расплатился самостоятельно: в 1805 году, заменив Толстого на посту губернатора Сергеем Кузьмичом Вязмитиновым и направив Петра Александровича во главе 20-тысячного десантного корпуса воевать Наполеона, Александр предложил оплатить долги бывшего градоначальника. Толстой отказался – будет служить, пока есть силы, а долги отдаст, уйдя на покой, в деревню. Отдал. «Он был очень добр, щедр, правдив, честен в высшей степени и за правду готов был стоять, перед чем бы то ни было, непоколебимо». За правду стоял он и перед Наполеоном. Как военачальник и как посол Российской Империи в Первой Империи.
Разные градоначальники были.
Серых, как валенок, не было.
Серых, никчемных, а посему злобных, не было.
Столичность была «градообразующим» фактором, стимулом и сутью его существования, синонимом его именованию.
Он был рожден имперской стать столицей.В нем этим смыслом все озарено.И он с иною ролью примиритьсяНе можети не сможет все равно.Наум Коржавин был прав. Как только Петербург терял свой столичный статус, при всех своих красотах и особом самоощущении он становился провинциальным городом с прекрасными дворцовыми ансамблями, изысканной планировкой несчастного Петра Еропкина, красивой историей, богатыми музеями, возвышенными мечтаниями и горделивой осанкой, но с периферийным социальным положением и уездным сознанием. Лишившись своей столичности, город быть «Петербургом» уже не мог.
Бесспорно, «Северная Пальмира» была задумана и заложена Петром, который Первый. Однако блистательной столицей она стала благодаря Петру, который был Вторым. Если бы изнуряющая страсть юного властителя Империи к охоте, простуда, полученная на льду Москвы-реки на празднике Водосвятия 6 января 1730 года и, наконец, редкий вид оспы не свели в могилу четырнадцатилетнего Российского Императора, сына царевича-мученика Алексея Петровича, то на брегах Невы, возможно, находили бы не увядшие и подкрашенные красоты Северной Пальмиры, а руины Ахетатона.
…25 февраля 1728 года в Петербурге начались празднования по поводу коронации Петра Второго. Бурхард Христофорович Миних – градоначальник столицы – постарался на славу. Семь дней на Царицыном Лугу били фонтаны белого и красного вина. Это – для простолюдинов. Знать гуляла в одном из дворцов Миниха невдалеке от этого Луга, ставшего потом Марсовым полем. Столы ломились (в прямом смысле – некоторые не выдержали веса яств, среди которых выделялись цельные туши крупных млекопитающих), вино и пиво стояли по стенам в бочках и бочонках. Каждый тост сопровождался выстрелом из пушки Петропавловской крепости – вот и крепость пригодилась – знаменитый фортификатор граф Бурхард Христофорович немало потрудился над возведением бастиона Петра Великого и окончанием бастиона Зотова (в камне). Все было бы хорошо, только жителей почти не осталось. Как отъехал юный царь со двором из Петербурга 9 января, так и сиганули за ним его подданные всех сословий и конфессий…
Не прошло и трех лет со смерти основателя Петербурга, а город на глазах угасал, разваливался, пустел. Трава бойко прорастала на главных улицах опустевшей столицы, стаи волков безбоязненно забегали в самый центр города, ушли гвардейские полки, мелкие присутствия остались на месте всесильных Коллегий, купцы, ремесленники, дворяне вслед за двором Петра Второго поспешно покидали болотистые, мрачные, дикие места, отдаленные от деревень и поместий, от нормальной, привычной, обустроенной жизни. Природа мстила своеволию амбициозного правителя, сотворившего город вопреки ее законам, пытаясь подчинить своей воле непокорную среду. «Царь не хотел жить в ненавистной ему старой столице… Создание новой столицы было делом неотложным… Приходилось одновременно возводить дворцы, храмы, дома знати и жилища для ремесленников, строителей, чернорабочих, скульпторов, живописцев… Предстояло развести сады, провести каналы, завести строительные материалы, растения, даже /плодородную/ землю и деревья – ждать пока вырастут новые было нельзя… Но задача была выполнена, город /…/ возведен…» (М. Матье). Это – не о Санкт-Питер-Бурхе. Это – о новой столице фараона XVIII династии Аменхотепе IV (Эхнатоне), покинувшего в XIV веке до Р.Х. старую столицу – Фивы и основавшего новую – на брегах Нила… Так же безжалостно, стремительно, вопреки всем традициям древнеегипетского зодчества, насилуя страну и народ, в кратчайший срок воздвиг Эхнатон город из белого камня – «Землю бога Атона», с огромным дворцом своей первой жены Нефертити – самым большим в архитектурной истории этой древней цивилизации, с удивительной планировкой, просторными улицами, светлыми храмами, удобными и обширными жилищами горожан, сверкающими белизной набережными. Однако после смерти этого царя – мечтателя, авантюриста, жестокого преобразователя, поэта (автора жемчужины египетской поэзии «Гимна Атону»), строителя, фанатика, философа, сумасшедшего, провидца – после его смерти сменивший его Тутанхатон, ставший Тутанхамоном, – муж третьей дочери Эхнатона, перенес столицу в Мемфис. «Земля Атона» была заброшена, стала разрушаться, а по воцарению XIX династии город был проклят, оставшиеся постройки снесены, жемчужина древности постепенно занесена толстым слоем песка. Прародитель «авраамических» религий – иудаизма, христианства и ислама – «атонизм» ушел вместе со своим создателем и главным жрецом – великим религиозным реформатором Эхнатоном. Единый бог Атон изгнан из храмов. Царь-еретик – забыт. Монотеизм был ненавистен традиционному жречеству Древнего Египта. В преломленной и обогащённой форме монотеизм (атонизм) проявился позже – в иудаизме. Так же, как были ненавистны и неприемлемы новации великого реформатора древности, были ненавистны и неприемлемы новации Петра Первого. Петербург, повторяя историю возник новения Ахетатона, избежал участи этого чудного, небывалого досель города. Проживи Петр Второй ещё хотя бы десяток лет – до 25-ти, – процесс был бы необратим. Однако он (удачно для истории города) умирает в 14 лет, и по воцарении Анны Иоанновны двор возвращается в Петербург, за двором силой, угрозой конфискации имущества и жилья, а также лишения прав загоняют жителей; начинается аннинский, елизаветинский, екатерининский периоды истории города – столицы Российской империи. Город постепенно принимает тот облик и то историческое – столичное звучание, к которому мы привыкли и которое было присуще ему до 17-го года. После 17-го город травой не зарос, волки по Невскому не бегали, песком Неву не засыпало. Но город перестал быть столицей и перестал быть Петербургом. Не было бы Вована, не назвали бы Ленинградом. Назвали бы как-то иначе. Петербургом он уже быть не мог. Столичность истекла, истощилась, исчерпалась. Петербург ненавязчиво, но закономерно стал Петроградом. Так бы и остался, если бы вождь пролетариата удачно не дал дуба, и город получил новое имя. Имя прижилось, городом и его обитателями облагородилось. Ленинград стал провинцией, уникальной и самодостаточной. Такой провинцией страна гордилась, а мир стране завидовал. Но – провинцией! Не случайно с выскакивающим от восторга сердцем и до блеска выбритой физиономией лица я мчался в Москву – из уезда в столицу! Провинциальностью кичились, она была эквивалентом оппозиционности или, во всяком случае, видимостью несоучастия, отстранения от кремлевского кровавого эксперимента, хотя это был самообман – кашу заварили на Неве, – но самообман сладкий, дурманящий, возвышающий. Да и в Кремле в городе-колыбели видели скрытую угрозу, не случайно вырезали, выдавливали слой за слоем и руководителей, и интеллигенцию. От Зиновьева – к лучшему Другу Вождя – «Огурчики, помидорчики/ Сталин Кирова убил в коридорчике» (10 лет без права переписки), а там – и «Ленинградское дело» – кровавое и тупое. От Гумилёва до Бродского, от Патриарха Тихона до генетиков, от академиков Тарле, Платонова и Н. П. Лихачева до галериста-нонконформиста Георгия Михайлова, от Бахтина и Мейера до Эткинда. Если не выреза́ли, то отторгали и вытесняли. Будь то гроссмейстер Виктор Корчной, фигуристы Людмила Белоусова и Олег Протопопов или пианист Григорий Соколов. Никакой политики – ленинградцы!
Город остался провинцией – Ленинградом, без потуг на столичность. И в этом было его обаяние. В этом было отличие от Петровского и нынешнего «Петербурга»: город был един и органичен, без раздвоенности, без сочетания несочетаемого: европейскости – азиатчины, старомосковских традиций – европейских новаций (это – в прошлом), ленинградской интеллигентности – новорусского хамства, остатков подлинной культуры – варварства новых лавочников с Литейного, 4 (это – нынешний Питер)…
А как выбежать поутру после жуткой пьяни: метель задувает под пальтишко, второпях не оденешься, если трубы горят, штиблеты на босу ногу, да к ларьку. Угол Короленко и Артиллерийской. Там очередь, но лица знакомые, серые, непохмеленные. «Клавочка-душечка, маленькую и большую с подогревом». Пену сдул и – потекло. От счастья задыхаешься, захлебываешься, льешь на суконную грудь, начинаешь вспоминать, где и с кем вчерась пил, кому звонить, чтобы продолжить фиесту. Родина, память.
Санкт-Питер-Бурх, заложенный Петром Великим, как в капле воды отражал главную особенность новаций и всего царствования царя-плотника, как, впрочем, и всей послепетровской истории. За новым европейским фасадом скрывалось старое – азиатское содержание. Здание Двенадцати коллегий, поражавшее современников своим небывалым, строгим, европейским видом – не что иное, как допетровские приказы, да и построено здание было по проектам старых кремлевских «присутствий» XVI–XVII веков. Непривычные для русской архитектуры конфигурации шпилей и куполов вновь выстроенных соборов, прежде всего, Адмиралтейства, Петропавловки, Исаакия – вызолочены, как маковки московских церквей – «чтобы Господь чаще замечал». «По обеим сторонам /Невы/ стоят отличные дома, все каменные, в четыре этажа, построенные на один манер и окрашенные желтою и белою краскою. /…/ Но самое приятное, что представляется в этой картине, когда въезжаешь по Неве в Петербург, это крепостные строения, которые придают месту столько же красоты, как и возвышающаяся среди укрепления церковь… Поражает бой часов, какого нет ни в Амстердаме, ни в Лондоне». Это писал в 1736 году датчанин фон Хафен. Поражал не только бой часов, но и весь облик парадного регулярного Петербурга – его «витрины», расположенной по брегам царственной Невы, а затем и Безымянного Ерика – Фонтанки. Такой стройности и упорядоченности не знали хаотично застроенные старые столицы Европы. Как и не знали в Европе скопищ деревянных азиатски-неприспособленных для жизни строений, составлявших суть города вплоть до 20-х годов XIX столетия. Деревянный Петербург горел. И как горел! За европейским фасадом простиралась российская допетровская Русь. Парадный подъезд блистал, а за ним – да трава не расти…. Как в нынешние времена – к приезду местного Президента или заморского – красят в лучезарные цвета Гостиный двор по Невской линии и на десять метров по Садовой – там, где начальственный глаз охватить может при быстрой езде безразмерного кортежа, а дальше – опять-таки, трава не расти… Причем в деревянных домах, избушках, особняках, дворцах жили не только ремесленники, рабочие, извозчики или квартировали в казармах столичные гвардейцы. Представители лучших фамилий, цвет российского общества, ещё долгое время предпочитали жить по-старинке – в богатых срубах.
Однако главное, – и в каменных желто-белых четырехэтажных домах, выстроившихся по воле Петра вдоль рек, и в деревянных палатах и хижинах жили рабы. «История представляет около его /Петра/ всеобщее рабство. /…/ все состояния, окованные без разбора, были равны пред его дубиною». Это Пушкин. А это – уже времена Анны Иоанновны. Французский посланник маркиз Шетарди в конце 30-х годов восемнадцатого – просвещенного – столетия писал с изумлением о высшем дворянстве России: «Знатные только по имени, в действительности же они были рабы и так свыклись с рабством, что бо́льшая часть из них не чувствовала своего положения». Почти сто лет прошло, и граф Михаил Сперанский констатирует: «Я вижу в России два состояния – рабы государевы и рабы помещичьи. /…/ действительно же свободных людей в России нет». Да что Сперанский – «попович», сын причетника в церкви поместья С. В. Салтыкова! Князь Петр Долгоруков – потомок Рюрика и св. Михаила Черниговского, представитель древнейшей, богатейшей и блистательнейшей фамилии России, один из предполагаемых – не обоснованно – авторов писем-пасквилей, приведших к дуэли Пушкина и Дантеса; Долгоруков, позволяющий себе менее знатную и менее «преуспевшую» фамилию Романовых называть «домом принцев Голштейн-Готторпских, ныне восседающим на престоле Всероссийском», этот князь – один из наиболее «содержательных» корреспондентов – оппонентов Герцена, князь-бунтарь, уже в 1860-м году – время весьма даже либеральное, «освободительное» – писал: «Родился и жил я, подобно всем дворянам, в звании привилегированного холопа в стране холопства всеобщего»… Это уже не Европа. Лишь вывеска европейская. «Страна рабов», – диагностировал М. Ю. Лермонтов. Достаточно было нахмурить брови тринадцатилетнему мальчику-царю, как рухнул «полудержавный властелин», полноправный хозяин огромной империи, перед ним дрожала Европа, ему были преданы лучшие гвардейские полки, генералиссимусу стоило лишь появиться в казармах и громовым голосом «попросить о защите», что было неоднократно и успешно делано при возведении на престол Екатерины Первой или того же Петра Второго, и очередной переворот был бы неминуем. Нет, уполз в Березов. Как и ныне – сморщенный лобик (…) и рушатся (…), хотя прихлопнуть, (…) без помощи гвардейцев (…) «Сейчас в России нет частной собственности. Есть только крепостные рабы, принадлежащие (…)» (названо имя очередного хозяина страны). Это уже не Сперанский, это – XXI век.
…Рабы – они и есть рабы. Как с рабами и поступали. Это – не Европа. Решено было застраивать Адмиралтейский остров по Немецкой улице и по Задней улице каменными домами, но не все вельможи и простолюдины выполнили. Посему Указ: «У тех обывателей по линии хоромные строения /то есть деревянные временные/ ломать каторжными, а им объявить: буде они на местах с нынешнего мая месяца строить палат /каменных/ не будут, то те дворы их взяты будут на Е.И.В.» И пришли безносые с рваными ушами и безъязычные и стали ломать и крушить вполне пригодные теплые насиженные дома, и понесся над столицею истошный бабий крик, вой обезумевших собак, детский плач, перинный пух и ужас. Как в двадцать первом веке перед (…) в (…). Только ныне крушили уже не каторжные, а военные бульдозеристы. Не в Европе, слава Богу, живем. Свой особый путь.
Многое происходит в России, но ничего не меняется. Чем больше происходит, тем меньше меняется – окостеневает.
Также и в Петербурге.
Ну как в Петербурге не жить?Ну как Петербург не любитьКак русский намек на Европу?Работать так, чтобы товарищ Сталин спасибо сказал!В Ленинграде же все пришло в соответствие. Не стало имперской гордыни, спесивого величия, и ушла азиатчина. Спокойно и естественно существовал Ленинград без навязчивых, аляповатых и безграмотных вывесок и реклам, сыпью покрывших величественные и понурые здания, словно стыдящиеся своей безвкусной раскрашенности; Ленинград, с ещё не загубленным Летним садом, с общедоступными санаториями на Каменном острове и спортивными базами, на которых, помню, мы гребли на четверке распашной и бегали на лыжах (это входило в программу тренировки пловцов); Ленинград коммунальных квартир, Ахматовой, общественных бань, Публичной библиотеки, «жилищной» толкучки у Львиного мостика и книжной – в садике двора на Литейном проспекте, напротив улицы Жуковского, с тыльной стороны магазинов «Спортивные товары», «Подписные издания» и «АКАДЕМКНИГА», пышечных на Садовой и Желябова, Мравинского и Товстоногова, купанья у Петропавловской крепости летом и зимой, выпускных школьных балов, рюмочных с килечными бутербродами и пирожков с повидлом за 5 копеек, «Сайгона» и «Ольстера», прачечных с неизменным запахом свежего «парного» белья и сильно нетрезвых финнов с изумленными организмами и единым отъехавшим сознанием, Лихачева и Друскина, шпаны с Лиговки и молочниц с бидонами из ближних пригородов – Парголово, Токсово, Вырицы; Ленинград прозрачной воды Фонтанки и запаха корюшки по весне, автоматов с газировкой за одну копейку без сиропа и за три копейки с сиропом, а также с пивом (20 копеек), вином и одеколоном (бросил монетку и тебе в рожу брызги удушающего аромата советской парфюмерии); Ленинград Ленфильма и Ленкниги, дровяных кладей во дворах и елки во Дворце пионеров, дефицитов во всем: от сто́ящих книг («Маркова и Проскурина не предлагать») до «резинового изделия № 2» Баковского завода резиновых изделий за 2 копейки. (Я как-то, стоя у аптечного прилавка и намекая девушке-фармацевту на жгучее желание и жизненную необходимость приобрести этот дефицит, задумался, а что же такое «резиновое изделие № 1»; через много лет узнал: № 1 оказался противогазом, а № 4 – галошами). Резиновые изделия № 2, кстати, поначалу были трех размеров: маленького (№ 1), среднего (№ 2) и большого. Маленького размера мужчины не покупали – кто ж в этом признается, а большие «с напуском» спросом, увы, не пользовались, поэтому с таким успехом прошел Фестиваль Демократической молодежи и студентов; остались сверхдефицитными лишь изделия усредненные – № 2. Во всех смыслах…
Это был мрачноватый, серьезный, независимый город. В этом городе были, конечно, и Смольный, и «Большой дом», и Мариинский дворец, но это был не Ленинград, а лежбище оккупантов, так же, как никогда не были ленинградцами Жданов, Фрол Козлов, Спиридонов, Толстиков, Романов, Соловьев или Гидаспов (помните таких?). То были не ленинградцы – прокураторы. Ленинградцы старались, а многие и умели жить так, как будто «их» нет.
Не надо было мне голосовать за возвращение старого, себя исчерпавшего имени города. Натан Ефимович Перельман – не только превосходный пианист и педагог, но и остро, парадоксально и афористично мыслящий человек – как-то задал вопрос: «Какое блюдо самое невкусное». (Студентка играла с преувеличенным, неестественным, «реанимированным», поэтому нелепым и смешным эмоциональным подъемом – по этому поводу и был задан вопрос.) Мы стали изощряться на подзаборном уровне. Перельман оборвал нас, брезгливо поморщившись, и сказал: «Самое невкусное блюдо —… подогретое». Абсолютно точно! Остыло, так остыло. «Доктор сказал “в морг”, значит, – в морг!» Не может быть «Вперед в СССР!». Это «вперед» – в никуда, как «Вперед – в Римскую империю».
Кат сей раз трудился сверхмерно. Три шага назад – прыжок, удар, кровавая борозда. Как в «Абраше»[1] описано. Методика и принципы полосования человеческого тела всегда страдали у нас консерватизмом, отсутствием инициативы и смекалки. Ошметки кожи, мяса – прочь, три шага назад, прыжок… Старался хвост кнута класть не плашмя, а на ребро, так, чтобы до белеющей кости прорезало. Странно. Как казалось, генерал-полицмейстер своих подчиненных, а их на Петербург было тогда 69 чинов полиции, да два ката, секретно содержащихся, не считая каторжных, которых на это дело ставили – рук с хлыстом не хватало, государевы каты со всей работой не справлялись, да два десятка сторожей-будочников, – всех их горемычный градоначальник привечал, опекал. Намедни просил Сенат прибавить денег на оплату жалования всех чинов полиции и прислуживающих: 1059 рублей с копейками в год на всех – зело ничтожно. Как бы не так. Сенат копейку зажал. Да и генерал-губернатор Александр Данилович, сродственник будущий, не внял. Не получилось, но старался ведь. И угощал по всем праздникам, и другую заботу проявлял. Порой даже из своего кармана. Карман был худой, не то, что у шурина. Ан нет. Три шага назад, прыжок, шматы – прочь. На каждом десятом ударе ремень, в крови размягченный, сменять, чтобы новый рабочую свою часть – вываренный в воске и молоке, на солнце высушенный «хвост» из воловьей кожи с заострёнными краями, – первозданную лютость и законную силу не терял. Сладостно, видимо, полосовать спину бывшего всесильного владыки.