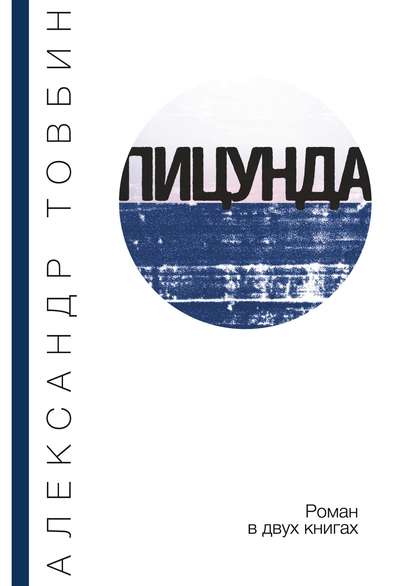Полная версия
Приключения сомнамбулы. Том 1
Какой-то гнилостный запашок подполья… Обрыдла форсированная парадоксальная искренность!
А как бравирует своим экзорцизмом! Главное для него, не стесняясь внутренних раздоров, собственные комплексы поскорее вытеснить из «я» на бумагу.
Но возможна ли искренность отложенная и отстранённая?
Не абракадабра ли – дневник постфактум, написанный к тому же от третьего лица, в котором спряталось-стушевалось «я»?
я(разоблачаясь, во весь голос)– Не знаю, что напишу, не уверен, что вообще что-либо стоящее получится, ибо хаос, дразнящий и отрешённый хаос, обступает меня, а формально-логические решётки мысли, которые я ищу, чтобы наложить их на хаос, навязать ему свой порядок, чересчур примитивны. Но что бы я, ненавидящий объективные тексты, не написал – это буду я: роман есть в первую очередь портрет романиста, как бы тот не увёртывался, какие бы маски не напяливал, какую бы шинель, хоть и гоголевскую, не примерял для отвода глаз. Роман и против воли сочинителя, серого кардинала, играющего судьбами персонажей, выписывает во всех неопределённостях его истинное лицо.
Что же до меня… Депрессивное ли, буйное моё томление над бумагой раскрывает желание стать иным, освободиться, выйти из сумеречной аморфности на свет, который вылепит форму. И хотя об обнажающих сочинителя свойствах текста среди профессиональных властителей дум постыдно даже упоминать, мне-то, дилетанту-графоману, чего бояться? Роман – утверждаю я, обобщая, – это портрет творца во всей его ищущей неприглядности…
нет, не так!Нет, нет, только не от первого лица, – не то!
Бесповоротно – не так, не то! Хватит и начала развязной я-эпопеи! – окончательно обрывает задиристо-болезненную декламацию с авансцены автор, который ищет, но пока никак не находит скрытую интонацию, и ловит себя на том, что снова раздражённо, неприязненно смотрит на своего разболтавшегося в роли молчуна персонажа: откуда взялся?
от автора (немаловажное дополнение к прологу)Непрошеный гость явился из темноты.
Призрачное лицо, прожжённое тусклыми огнями далёких домов, скользнуло в чёрном окне, прислонилось к раме зыбкой бестелесностью, которая с головой выдавала лирического героя, и, судя по всему, было готово разделить моё одиночество. Но стоило мне слегка повернуться, как пришелец растворился холодным блеском, и я с полчаса не решался вернуть его из пропасти ночи.
По правде сказать, издавна то там он мелькал, то здесь, перебрасываясь словечком, малозначимой фразой, мы с ним сталкивались и расходились на Невском, встречались на Пицунде, на хеппенингах в котельной Шанского, в пьяных, до утра спорящих о политике и искусстве компаниях, где он, погрузившись в свои мысли, куда больше слушал, чем говорил… мало ли где мы могли встречаться? Всё в нём как будто было мне знакомо и – всё! – неожиданно. Не знал смогу ли я, автор-манипулятор, с ним совладать, он выкидывал такие фортели. Судите сами. Как-то на Невском, у Дома Книги, перед светофором замер фантастический лимузин, за рулём… причём слева и справа от водителя-Соснина, вцепившегося в руль, почему-то размещённый не сбоку, а по центру кабины, сидели… один торжественный, в чёрном фраке, другой – в пижаме… я хотел присмотреться к странным пассажирам, к Соснину в более, чем странной для него роли водителя, а он пригнул голову к рулю, оставалось и мне притвориться, что я его не заметил. Что за встреча? Я, автор, увидел себя в сне соавтора-персонажа?! И в тот же день, чуть попозже – сколько времени мне понадобилось, чтобы от Дома Книги дойти до кафе-автомата на углу Рубинштейна? Минут двадцать? От силы, двадцать пять – его уже в противоположную сторону везла по Невскому в обычных «Жигулях», хотя и с мраморным догом на заднем сидении, соблазнительная блондинка. И это при том, что он ненавидел автомобили, его укачивало. Едва «Жигули» с Сосниным и мордой дога в окне свернули на Владимирский и покатили к площади, я толкнул дверь «Сайгона» и – он был там! Там!!! Вокруг него, изрядно помолодевшего, шумели, дымили будущие литературные знаменитости, тоже молодые; выпивка и кофе, остроты, стишки, к нему было не подступиться.
Частенько он тоже за мной подсматривал, порой настырно, не прячась, порой так, что сам я преследователя не видел, лишь чувствовал давление взгляда. Иногда я резко оборачивался – никого не было.
Вскоре, однако, мы сблизились; он, казалось, становился добрым моим приятелем… я о себе столько узнавал от него, догадывался, обмирая, что всё то, что с ним приключилось, вполне могло бы приключиться со мной.
Действительно, многое нас сближало – профессия, вкусы, интересы в искусстве… мы даже были влюблены в одну женщину, он ревновал меня… впрочем, ревность, наверняка, усиливала напряжение, спонтанно возникавшее между нами; сближаясь, мы то и дело ощущали силы отталкивания.
Его внутренний мир вспучивался, бродил, любой пустяк, коего он касался, мог спровоцировать звёздные войны, и хотя не в моих правилах злословить за спиной у героя, замечу всё же, потупясь, что рост солнечной активности, наблюдавшийся в последние годы, явно повлиял на психику Соснина – думаю, именно воспалённость сознания позволила ему сделать зримыми свои метафорические предчувствия, а мне дало дополнительный повод навести на его сознание увеличительное стекло.
Хотел сосчитать бзики Соснина, увы, быстро сбился.
Он искал суть открывшегося ему не в череде реальных событий, но в прихотливых их отражениях, гнал мысли и чувства по кругу, просеивал будущее сквозь сито прошлого… бывало, ночи растрачивались на препирательства, он ведь и путаную историю свою, немало меня озадачив, рассказывать предпочёл с конца, навязал мне своё видение романной композиции…
Жизненные причины и следствия закольцовывает искусство – возвещал между тем Соснин, растолковывая тайны художественного зрения, тут же объяснялся в любви к придаточным предложениям, неустрашимо скрещивал спорные воззрения, точно шпаги, и, парируя какой-нибудь контрвыпад, с непостижимой лёгкостью делал шаг, отделяющий великое от смешного, после чего все мои благие порывы превращались в карикатуры.
Мысли дробились, горячечная речь петляла, а я слушал, слушал, пока расплывчатый овал не слизывался серым рассветом; убиралось восвояси двоившееся пугало нарциссизма, я засыпал, падая головой на пухлую кипу заметок… и только по дороге на службу, преследуемый хором ночных отголосков, ловил себя на том, что далеко не всё из рассказанного Сосниным о своём приключении дошло до меня. Однако Соснин заставил поверить в реальность изглоданной мечтами, сновидческой жизни, которую разбудила, чтобы перелить в роман, интрига случая. Мне захотелось роман тот поскорее прочесть. Наконец, на столе моём вырос ворох торопливо исписанных, с множеством вставок, листков, и к самому Соснину, к его дальнейшей – за границами романа – судьбе у меня угас интерес. Я начал писать поверх его черновиков: кое-какие из записей сохранял, но многое вымарывал, многое дополнял, твёрдой рукой заменял «я» на «он», восстанавливал иступлённые монологи, вскормленные моей бессонницей, воспроизводил путаницу пояснений и документов настолько полно и точно, насколько позволяли память и воображение.
Помните? – уничтожайте рукопись, но сохраняйте то, что вы начертали сбоку от скуки, от неуменья и как бы во сне…
Скукой не пахло, но я так и делал.
Откладывал на потом волокиту с сюжетом, психологическими портретами, пытаясь что-то непременно доказать себе самому, как крючкотвор ставил точки над «и» вместо того, чтобы заканчивать ими, точками, фразы, что-то снова убавлял, добавлял, подолгу сомневался оставлять ли, соскабливать со строчек и абзацев налёт салонности – понятно, вскоре я по уши погряз в бумажных заторах, которые громоздят письмо без плана и легкомыслие. Однако обвиняя в аморфном накопительстве окололитературного материала не себя, а неуёмное сознание Соснина, я упрямо продолжал в том же духе примирительной неразборчивости, хотя – не стану скрывать – ожидание ответственного для романиста экзамена растило на краю стола ворох композиционных шпаргалок. К тому же и Соснин-соавтор, в помощи которого я – самомнение автора безгранично! – уже не очень-то и нуждался, настырно напоминал: порядок слов важней самих слов. И ещё что-то чрезвычайно важное говорил, говорил, беззвучно шевеля губами за прозрачной хрупкой преградой; оставалось верить, что я, будто новоиспечённый медиум, читаю, не успевая записывать, чужие мысли.
Искусство гоняется за миражами, чтобы найти крупицы новой реальности…
Роман – это воздушный замок, где все камни краеугольные…
Можно было бы пространно цитировать Соснина, но разве и так неясно, что автор пристально вглядывается в цвета его чувств, в пластику умствований? Что он стерпит любой шум, надеясь в нём уловить мелодию времени? Испытывая смутную неприязнь к подминающей литературу власти событий, автор даст себе слово не выпячивать криминальную линию в рисунке сюжета, он вообще решит присыпать сюжет пёстрым сором деталей и писать состояния. Согнувшись под ношей добрых намерений, автор решит также, что злоключения Соснина – всего лишь метафоры, что сострадать Соснину можно, нужно, хотя спасать его вряд ли стоит – пусть упивается горечью, как червь редькой. Попутно взгляд автора скользнёт по аккуратной стопке белых листков и его осенит, что…
Так со мною всегда.
Тороплюсь, фантазирую на пустом месте. В детстве, едва попав в театр, я успевал разыгрывать незнакомую пьесу за те волшебные мгновения, пока меркла люстра.
время перевернуть пластинкуВот, например, мы недавно заладили – скорость, скорость…
И многим из бегущих от абстрактных понятий к образам могла, наверное, привидеться сверхзвуковая птица с клювом-иглой, гордая своей хищной металлической стреловидностью, а Соснина тем временем волновала бы не динамическая её обтекаемость, а тающий в лазури барашковый след.
Мы тут для затравки среди прочего порассуждали о стиле. Возможно, что эти начальные рассуждения получились неоправданно долгими. Соснин же, не вымолвив ни словечка – да-да, на авансцене его прорвало, а он вообще-то и впрямь молчун – столь же долго или ещё дольше простоял бы у старинной дымчато-зелёной шпалеры с белеющим под вековыми деревьями домом и, очарованный барышней на переднем плане, одетой в розовое воздушное платье, ловил бы отблеск жёстких, точно мозоль, стежков.
Попробуем почаще поглядывать на случившееся через хрусталики его глаз.
начнём так, как принято начинать (пролог, вполне реалистический)Весь февраль горожан донимала слякоть, по ночам всего на несколько часов застывавшая гололёдом, и волнами накатывал грипп, от резких колебаний давления страдали и дали-таки пиковую смертность сердечно-сосудистые больные, и когда в последний день последнего зимнего месяца вдруг повалили бесформенные густые хлопья, которые на ветру пускались в бешеную, с завихрениями круговерть, захотелось поверить, что зима опомнилась и теперь-то, воспользовавшись, пусть с опозданием, своими правами, быстро наверстает упущенное. Тучи мохнатых мотылей, таранившие тёмные стёкла, уже к полудню вынудили включить лампы в комнатах, дома потонули в несвоевременных сумерках, подвижная тяжёлая пелена отменила объёмность, если на минуту-другую выдыхалась снежная пляска, там и сям неожиданно обнаруживались только заросшие пухом фасадные выступы, плоскости же стен тонули в бестелесной монохромной обобщённости, а весь город превращался в труднообозримую выставку детских картинок, наляпанных чёрной и белой гуашью по грубому серо-коричневому картону.
Ну и метель, ну и буран, что-то будет ещё, не иначе как что-то будет… – бормотал Соснин, выскочив в обеденный час в пирожковую, и вспоминал как он когда-то в рисовальном кружке мазал чёрным стволы, ветки, чугунный узор и непременно какого-нибудь согбенно покоряющего стихию упрямца, потом где надо оторачивал сверху белым кроны, карнизные тяги, плечи и голову упрямца – на шапку налеплялся помпон, а потом, макая кончик кисти в белила, сажал много-много точек, чтобы они закружились в развязной пляске… смешно, на ступеньках пирожковой Соснина нагнал растолстевший, точно снеговик, Рубин, попросил взаймы трёшку.
Метель мела и мела, на людных улицах специальные уборочные машины, скрежеща, не успевали сгребать скрюченными железными руками снежную кашу, в переулках дворничихи лепили из неё фанерными лопатами рыхлые кучи, но снегопад продолжался с тупым упорством и если в тесноте городского центра с ним хотя бы пытались сладить, то просторы новостроек, где техника и дворничихи сами превращались в сугробы, быстро сделались непроходимыми, а дома-коробки, казалось, вот-вот должны были рухнуть под белой тяжестью.
К вечеру, однако, ударила оттепель.
Потеплело настолько, что белёсое мельтешение над Невским в какой-то миг растворилось и забылось, вдоль чёрных тротуаров побежали ручьи, забулькали грязные озёра над люками, а каналы, реки, так и не схватившиеся в эту больную зиму, жадно причмокивая, проглотили обильную пушистую присыпку и до краёв наполнились зыбким дёгтем.
Город готовилась придавить мокрая тёмная ночь.
Окна едва желтели, фонари окутались мутью, с крыш свисали космы тумана, отчего силуэты домов причудливо выгибались, ползли куда-то. В скверах ещё оставался снег, однако ночь подавляла слабеющее сопротивление белого цвета и электричества, опускалась ниже и ниже, и Соснин, который задержался, как назло, в мастерской и теперь, в гиблую позднюю эту пору пересекал бескрайнюю и пустынную Дворцовую площадь, – лишь в центре её, у Александринского столпа, виднелись штабели брусчатки и гранитных блоков, которые завезли, чтобы начать по весне и закончить к юбилею узорчатую замостку, – даже подивился мощи прожекторов, вырывавших из тьмы над Зимним дворцом шеренгу позеленевших от бессильной злости статуй. Но кто же, кроме нашего героя, станет переживать возвышенное чувство затерянности, задыхаясь от счастья, озираться по сторонам в такую погоду? Кто ещё посочувствует обездвиженности надкарнизных богинь, приравненных к вазам, когда сам торопится домой – к пенной ванне, горячему чаю? Замедлил шаг – и сейчас, под порывами сырого чёрного ветра, несравненная площадь была прекрасна вечной своей пустынностью: не площадь, а приют всемирного одиночества, не великого города главное обстроенное пространство, а вместилище духа целого мироздания… Редкие пешеходы, втянув головы в разбухшие плечи, вприпрыжку, как неуклюжие танцоры, неслись за троллейбусом, не догнавшие понуро шлёпали дальше по лужам, по плывущим в асфальте сальным кругам фонарей, те же, кто догадался укрыться зонтами, только усугубляли их тусклым блеском общую беспросветность, да и мокли под зонтами ничуть не меньше: вода была в самом воздухе.
Ко всему дул сильнющий ветер.
Дул с опасной стороны, с залива, именно поэтому реки и каналы угрожающе наполнялись. Однако, не позволив им расплескаться, ветер в последний момент переменил угол атаки, и на сей раз мы обойдёмся без наводнения. Хотя скорость ветра росла, его порывы, особенно ощутимые в заснеженных, отнюдь не отогретых оттепелью новостройках, пронизывали на вынужденном моционе людей с собаками, бросали в трепет деревья, с надсадным скрипом, как мачты яхт, терзаемых штормом, раскачивали телевизионные антенны в невидимом небе, а дома-коробки, служившие основаниями для этих антенн, казалось опять-таки, сами не выдержат свирепого напора воздуха и вот-вот повалятся, толкая друг друга, как домино. Но они выдержали и снег, и ветер. Отметим, справедливости ради, что если снегопад и выдался в тот день сверхобильным, то ураганный ветер бывал на городских окраинах частым гостем и к нему смогли приспособиться. Даже правила техники безопасности, обычно склонные к преувеличенной осторожности, без оговорок разрешали монтаж конструкций на большой высоте, изморось же вообще в расчёты не принималась. Поэтому, когда крановщица залезла в свою стеклянную конуру в поднебесье и включила свет, ночная смена приступила к работе на последнем, шестнадцатом этаже.
Смена как смена.
До перелеска тянулись тёмные бруски домов, продавленные кое-где ещё не погасшими мутно-жёлтыми окнами, глубоко внизу угадывалась плашка поликлиники с пухово-снежной подушкой крыши, а за ней льдисто поблескивали пока что не заселённые башни, между которыми, далеко-далеко, над воображаемым горизонтом, шарили по тучам красноватые рефлексы реклам.
Ничто не предвещало беды: в похожей на юрту монтажной будке, где можно было отогреться и перевести дух, мирно попискивала рация, иногда доносившая ругань потусторонних диспетчеров, пыхтел на электрической плитке чайник, из кошёлки подбадривающе выглядывали бутылочные головки.
Однако часовой механизм тикал, стрелки подползали к роковому рубежу и потом в многочисленных отчётах и протоколах будет с идеальной точностью и дотошнейшими подробностями зафиксировано когда и в какой последовательности начали с гнусными стонами рваться стальные связи, когда и как затрясла заиндевелые стены, подгоняя сбегавших по лестнице, не успевших и портвейна глотнуть рабочих-монтажников, бетонная дрожь, и раздался дикий предсмертный рёв. Когда же обитатели ближайших пятиэтажек были разбужены кошмарным рёвом, слетели с кроватей и босяком кинулись к струившимся холодным потом окнам, им сперва удалось различить во тьме лишь крохотный изумрудно-зелёный огонёк, очевидно приглашавший гуляк-полуночников в свободный таксомотор, и только чуть позже, по мере привыкания глаз, на месте одной из обступавших поликлинику башен, уже почти что сравнявшейся по высоте с остальными, смонтированными прежде, стала вырисовываться огромная, неправильная пирамида из бетонного боя с разбросанными вокруг неё чёрными обломками, которые при минимальном на то желании можно было принять за ошмётки тел.
отведём стрелки на несколько часов назадДа, беда ещё не материализовалась, лишь меняла обличье предупреждений. Метель, оттепель, развёрзшая купель грязи, бешенный ветер. Соснина с Дворцовой площади едва не сдуло, хотя вымок, отяжелел… вода была в самом воздухе.
Проголодался – сжевал два чёрствых пирожка за день. Но в гастрономе ничего съедобного не осталось, оттаивали только тёмные куски мяса, розоватая жижа стояла в большом эмалевом противне. Громко перебраниваясь, продавщицы возили тряпками по прилавкам, одутловатая баба в грязном синем халате вывалила мокрые опилки на пол, шуровала, не глядя, шваброю по ногам. Тут, правда, мотнулась обитая жестью створка, из подсобки выехало на колёсиках металлическое корытце с парниковыми огурцами. А-а-а, – догадался Соснин, вмиг очутившийся в хвосте очереди, – конец месяца, выбросили дефицитный товар. Откуда люди-то набежали? – суета, толчея. Соблазнительные, сочно-зелёные, гнутые огурцы быстро перекладывались в сетчатые корзинки. Продвигаясь к опустошавшемуся корытцу, Соснин мысленно выбрал глянцевого красавца со слегка увядшим жёлто-оранжевым цветком на кончике. Однако ловкая рука схватила красавца, а другая рука, не менее ловкая, выхватила последний огурец из-под носа.
Успел заскочить в пельменную.
В струившихся по стеклу потоках торопливо проплывали мутные тени.
Дверь на пружине хлопала, разбухшие фигуры запрыгивали в тепло, точно собаки после купания, потешно передёргивались, разбрызгивая серебро капель… шумно двигали стульчики на железных ножках, рассаживались, расстёгивались, морщились от гнилого запаха кухни, который нестерпимо смешивался с испарениями одежды.
Раскисшее тесто с фаршем, компот из сухофруктов.
Неряшливая усталая посудомойка гремела тарелками, и тут шабашили – варка-парка выдохлась, дверь уже на засове; за окошком раздачи тускло поблескивали перевёрнутые вверх дном кастрюли, сковородки.
добравшись домой, усевшись за бюро-конторкой (около двух часов до катастрофы)Сел, сгрёб со столешницы случайные бумаги. Вспомнил, что завтра должен выдавать фасадные колера, монтаж заканчивался… И, значит, надо искать кисти, коробку акварели, готовальню с фарфоровой плошкой, в ней удобно разводить краски.
Соснина окружали случайные вещи – застланный пледом матрас на ножках, плоский, с отслаивавшейся белёсой фанеровкой платяной шкаф, лапидарный эстонский стол, сборные полки.
Жавшийся к стенам мебельный хлам служил, однако, неряшливой оправой отменной старинной вещи, навязанной матерью, когда он поселился отдельно. – Это дядино наследство, ему от отца, ценителя старины, досталось и вот, тебе теперь будет на всю жизнь память, красное дерево редкой такой породы, – уговаривала после смерти Ильи Марковича сына и, похоже, хорошо, что уговорила: смирился, потом привязался к громоздкому подарку судьбы. Недаром и все предметы почтительно расступались перед высоченным, почти под потолок, красновато-коричневым бюро-конторкой с выразительным резным фризом; просторная толстенная столешница для письма; легко выскальзывающие ящички, разных размеров шкафчики.
Две узкие вертикальные гобеленные вставки и две ионические колонки, примыкавшие к гобеленным вставкам и подпиравшие фриз, который был населён античными героями, обрамляли два главных, разделённых осью симметрии шкафчика, их двустворчатые, с пухлыми филёнками дверцы, стоило еле-еле потянуть за тонкие латунные ручки, плавно распахивались. С боков – справа, слева – столешницу огораживали скруглённые стеночки – бумаги, рука с пером, да и голова, клонящаяся к письму, попадали в уютную замкнутость, а нарождавшееся творение можно было укрывать от сквозняка или сглаза опусканием гибкой, гофрированной, собранной из реечек шторки, как с горки съезжавшей по утопленным в скруглённые стеночки полозкам.
поглядывая на бюро-конторку, (за какой-то час до катастрофы) начнём разбираться в бросающихся сразу в глаза, вроде бы забавных, но по сути серьёзных свойствах и противоречиях характера СоснинаЕму спокойно и тревожно было сидеть за этим антикварным бюро.
Казалось бы, вдохновенная сосредоточенность должна была автоматически снисходить на него, ценившего замкнутость персонального пространства, но… но он ведь и в столь ценимом укрытии, едва настраиваясь на деловой лад, сосредотачиваясь, тут же желал расширения обзорности, услаждающей взгляд, зовущей отвлечься от праведного труда… да, когда он вдобавок к своей сутулости склонялся над работой, боковые скруглённые стеночки бюро уже раздражали, как шоры.
Конечно, размеры столешницы провоцировали милый многослойный хаос листков с пометками, блок-нотов, карандашей. Но солидность, симметричная массивность бюро взывали к какому-никакому порядку, а Соснин не только столешницу заваливал всякой бумажной и канцелярской всячиной, но и шкафчики забил чёрт те чем, не помнил даже куда, под ворох ли старых фотографий, студенческой мазни засунул в прошлый раз акварель «Ленинград» и готовальню, придётся искать. Фулуев пригрозил. – Завтра крайний срок, кровь из носа, а надо.
Да, затянул с выдачей колерного листа – монтаж башни заканчивался, фасадные краски не заказали.
Под фотографиями коробка акварели и готовальня не обнаружились, перебрал маленькие выцветшие фото: вот они с Художником на этюдах в Плёсе, лето, кудрявые берёзки на сказочных холмиках, вот – безлюдный пярнусский пляж, низкие облака над осенним морем… нет, не хотелось браться за кисточку! Хотя дела-то всего на десять минут. Цветовую гамму давно продумал. – Любопытно, любопытно, цвета ампира на навесной мембране, – догадался, похваливая лихо раскрашенную перспективу Филозов, – интересно, как в натуре получится. Филозов велел перспективу на стену своего кабинета повесить. Откладывал поиски готовальни с фарфоровой плошкой, красок, кисточек. Охотно бы откинулся на спинку кресла и – благо кресло вращалось – в спасительное окно уставился, созерцал бы бег облаков, закат, но теперь-то за окном кромешная тьма. Рука сама потянулась к стопке с книгами, среди них были совсем ветхие, распадавшиеся на страницы – как их окончательно не зачитал Шанский? Сверху лежала растрёпанная мягкая книжка Генриха Вёльфлина, педантично уловившего все тонкости перехода от ренессанса к барокко, книжку ещё в институте подарил профессор Нешердяев; открыл: «после 1520 года уже не возникало безукоризненно чистых по стилю произведений…», так-так, «в начале своего существования барокко было тяжёло, массивно, лишено свободы и серьёзно; постепенно его массивность тает, формы становятся легче и радостнее, и, в конце концов, приходит то игривое разрушение всех тектонических форм, которое мы называем рококо». Под Вёльфлиным томились книжки, оставшиеся от дяди, тут же, под нависшими шкафчиками, внушительно, в ряд, выстроились коричневые манновские тома, не мог себе отказать в удовольствии вытащить наугад, открыть. – «Что такое время? Бесплотное и всемогущее – оно тайна, непременное условие мира явлений, движение, неразрывно связанное и слитое с пребыванием тел в пространстве и их движением»… так-так, «время длительно, для определения его свойств скорее всего подходит глагол: «вынашивать». Но что же оно вынашивает? Перемены!». А в начале следующей главы: «Можно ли рассказать время, какое оно есть, само время, время в себе?». И чуть далее: «Существуют записки курильщиков опия, доказывающие, что одурманенный за короткое время своего выключения из действительности переживал сновидения, охватывающие периоды в десять, тридцать… лет, а иногда и уходящие за грань всякого возможного и доступного человеку восприятия времени. Следовательно, в этих сновидениях, где воображаемый охват времени мощно превосходил их собственную продолжительность, образы, теснясь, сменялись с такой быстротой…». Так бы и читал, читал, но – захлопнул том, пересилив себя, поставил на место, а сбоку от волнующих многотомных премудростей… как славно было б полистать перед сном альбом репродукций, живопись умиротворяла, хм, «Гора Святой Виктории», песочно-розовая в лучах заходящего солнца. И вот она же, сизо-голубая, дневная.