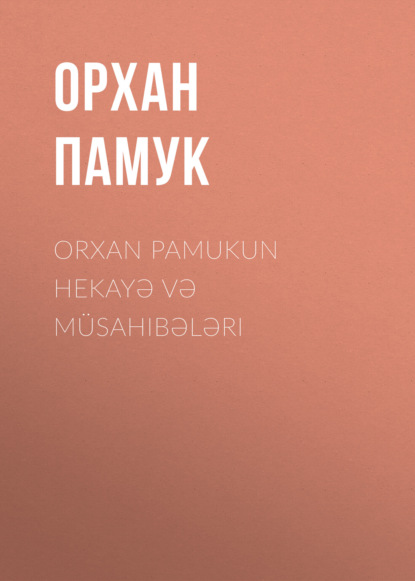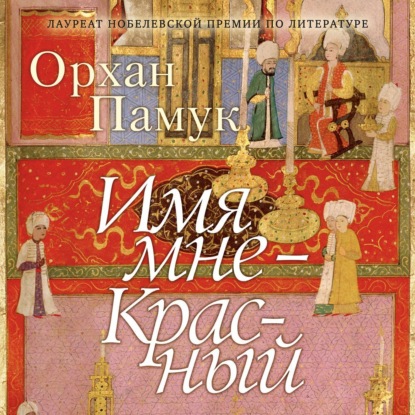Полная версия
Снег
Во всех этих рассказах сквозила безнадежность и завораживала стремительность перехода от обычного течения жизни к смерти, поразившие Ка. Вбитые в потолок крюки, ружья, заряженные заранее, бутылки с удобрением, припасенные в спальне, доказывали, что погибшие долгое время вынашивали мысли о самоубийстве.
Внезапные самоубийства девушек и молодых женщин начались в Батмане, в сотнях километров от Карса. Во всем мире мужчины совершают самоубийства в три-четыре раза чаще, чем женщины, но в Батмане женщин, которые покончили с собой, было в три раза больше, чем мужчин. Процент самоубийств превышал среднемировые показатели в четыре раза, и этот факт привлек внимание молодого прилежного сотрудника Анкарского государственного института статистики, но заметка, которую опубликовал в газете «Джумхуриет» его друг-журналист, никого в Турции не заинтересовала. Зато заинтересовались корреспонденты немецких и французских газет, съездили в Батман и рассказали об этом читателям в своих странах. Тогда происходящее сочли достойным внимания и их турецкие коллеги, после чего в город приехало очень много журналистов – и своих, и иностранных. С точки зрения чиновников, заинтересовавшихся этим случаем, ажиотаж в прессе спровоцировал на самоубийство некоторых других девушек. Заместитель губернатора, с которым разговаривал Ка, заявил, что по статистике количество самоубийств в Карсе не достигло уровня Батмана и «в настоящий момент» он не возражает против встреч с семьями погибших, но при этом попросил при разговоре с родственниками не употреблять слишком часто слово «самоубийство» и воздержаться от преувеличений в газете «Джумхуриет». В Батмане начали готовить комиссию для поездки в Карс; в нее вошли психолог, специализирующийся на самоубийствах, полицейские, прокурор и чиновники из Управления по делам религии; управление уже напечатало и расклеило осуждающие самоубийство плакаты: «Человек – шедевр Аллаха, самоубийство – кощунство», а также прислало в канцелярию губернатора предназначенные для раздачи населению брошюры духовного содержания с теми же словами в заглавии. Заместитель губернатора, однако, не был уверен в том, что эти «меры» остановят эпидемию самоубийств, начавшуюся в Карсе; он опасался, что меры эти приведут к обратному результату, потому что многие девушки приняли свое решение не столько под влиянием новостей о самоубийствах, сколько в ответ на речи против самоубийств, которые постоянно слышали от представителей властей, от своих отцов, мужей и проповедников.
– Без сомнения, причина самоубийств в том, что наши девочки слишком несчастны, – сказал Ка заместитель губернатора, человек с беличьим лицом и усами, похожими на щетку. – Однако если бы несчастливая жизнь была истинной причиной самоубийства, то половина турецких женщин покончила бы с собой.
По мнению заместителя губернатора, женщин выводил из себя мужской голос, которым говорили с ними религия, семья и государство, поучая: «Не совершай самоубийства!» – и он с гордостью сообщил Ка, что написал в Анкару о том, что по этой причине в состав комиссии необходимо включить хотя бы одну женщину.
Впервые мысль о том, что самоубийство заразно, как чума, возникла, когда в Карсе покончила с собой девушка, приехавшая из Батмана. Ее дядя, с которым Ка разговаривал после обеда в квартале Ататюрка, в саду под заснеженными дикими маслинами (их не пригласили в дом), курил и рассказывал Ка, что его племянница два года назад вышла замуж в Батмане, что она с утра до вечера занималась делами по дому, а свекровь постоянно пилила ее за то, что у нее нет детей, – но все это не было причиной для самоубийства. Нет, она подхватила эту идею в Батмане, где женщины так часто себя убивают! А здесь, в Карсе, рядом с родными, покойная выглядела счастливой, так что те были ошеломлены, когда утром того дня, когда ей предстояло вернуться в Батман, они нашли ее мертвой в кровати и прочитали оставленную у изголовья записку, где было сказано, что она приняла две коробки снотворного.
Первой примеру женщины, привезшей из Батмана в Карс мысль о самоубийстве, последовала через месяц ее двоюродная сестра. Причиной этого самоубийства, о котором Ка дал слово плачущим родителям рассказать в газете во всех подробностях, было то, что одна из учительниц девушки заявила в классе, что та не девственница. Сплетня за короткое время распространилась по всему Карсу, жених расторг помолвку, в дом забыли дорогу те, кто раньше приходил сватать эту красавицу. Бабушка девушки начала твердить: «Замуж ты не выйдешь», и однажды вечером, когда все вместе смотрели по телевизору сцену свадьбы и пьяный отец начал плакать, девушка залпом проглотила снотворное, которое копила, воруя у бабушки, и уснула (как и мысль о самоубийствах, метод тоже оказался заразительным). Когда вскрытие показало, что погибшая была целомудренна, ее отец обвинил в происшедшем не только учительницу, распространившую сплетню, но и покончившую с собой родственницу из Батмана. Родители рассказали о самоубийстве дочери со всеми подробностями, поскольку хотели, чтобы в газетной статье было объявлено, что обвинение необоснованно, и чтобы была наказана учительница, выдумавшая эту ложь.
Во всех этих рассказах Ка повергало в странное уныние то, что решившимся на самоубийство непременно удавалось найти нужное время и уединение, чтобы покончить с собой. А ведь даже девушки, тайком принявшие снотворное, с кем-то делили свои комнаты. Ка, воспитанный в Стамбуле, в Нишанташи, на западной литературе, всякий раз, задумываясь о самоубийстве, чувствовал, что для того, чтобы это сделать, необходимо много времени и комната, в дверь которой много дней никто не постучится. Каждый раз, когда он представлял себе самоубийство, которое совершит с чувством полной свободы, медленно выпив виски со снотворным, Ка так боялся ожидавшего его безграничного одиночества, что никогда всерьез не допускал мысли об этом.
Единственным человеком, который своей смертью пробудил в Ка это чувство одиночества, была повесившаяся месяц и неделю назад девушка, носившая платок. Это была одна из студенток педагогического института, которых сначала не допускали на лекции, а затем по приказу, пришедшему из Анкары, и в здание института – только за то, что они всегда ходили с покрытой головой. Ее семья была далеко не самой бедной из тех, с кем разговаривал Ка. Пока Ка пил кока-колу, которую ее печальный отец достал из холодильника в своем собственном магазинчике и открыл, прежде чем протянуть гостю, ему рассказали, что, перед тем как повеситься, девушка призналась своим родным и друзьям, что подумывает о самоубийстве. Возможно, надевать платок она научилась у матери, в семье, но считать это политическим символом ислама она научилась у своих упрямых подруг и у институтского начальства, запрещавшего его носить. Несмотря на давление со стороны родителей, она отказывалась снять платок, и оттого полиция не пускала ее в институт; в результате ее собрались отчислить за прогулы. Увидев, что некоторые ее подруги, перестав упорствовать, сняли платки, а некоторые взамен надели парики, она начала говорить отцу и подругам, что в жизни ничто не имеет смысла и что ей не хочется жить. В эти дни уже и исламисты, и государственное Управление по делам религии стали расклеивать в Карсе листовки и плакаты, твердившие, что самоубийство – это самый большой грех, и никому и в голову не пришло, что такая религиозная девушка может покончить с собой. В свой последний вечер эта девушка (звали ее Теслиме) тихонько посмотрела сериал «Марианна», приготовила чай, налила его отцу с матерью, удалилась в свою комнату, совершила омовение и намаз, надолго погрузилась в собственные мысли, а затем помолилась и повесилась, привязав свой головной платок к крюку от люстры.
3
Голосуйте за партию Аллаха
Бедность и историяВ детстве бедность для Ка была рубежом, где заканчивались границы его «дома» и жизни среднего класса в Нишанташи (отец-адвокат, домохозяйка-мать, милые сестры, верная прислуга, мебель, радио и шторы на окнах) и начинался другой, внешний мир. Там существовала опасная тьма, которую нельзя было пощупать, и потому детское воображение Ка придавало этому другому миру некое метафизическое измерение. Это измерение не очень поменялось за прошедшую с тех пор часть его жизни, так что трудно объяснить, почему, внезапно решившись отправиться из Стамбула в Карс, он действовал под влиянием некой силы, словно бы побуждавшей его вернуться в детство. Ка жил далеко от Турции, но знал, что Карс в последние годы стал самым бедным и забытым районом страны. Можно сказать, что, когда Ка, вернувшись из Франкфурта, в котором жил двенадцать лет, увидел, что все стамбульские улицы, где он ходил со своими друзьями детства, все лавочки и кинотеатры полностью изменились, исчезли или утратили свою душу, это пробудило в нем желание искать детство и его чистоту где-нибудь в другом месте, и поэтому он отправился в поездку в Карс, чтобы вновь встретиться с умеренной нуждой среднего класса, которую помнил с детства. И в самом деле, заметив в витринах на рынке коробки круглого карсского сыра, разделенного на шесть треугольных частей (первое, что он в детстве узнал о Карсе), газовые печи «Везувий» и спортивные туфли «Гиславед», которые носил в детстве и больше никогда не видел в Стамбуле, он почувствовал себя таким счастливым, что даже забыл о самоубийцах, и обрел душевный покой оттого, что оказался в Карсе.
Ближе к полудню, после встреч с журналистом Сердар-беем и представителями руководства Партии равенства народов и азербайджанской общины, Ка бродил один по городу, под снегом, падавшим огромными снежинками. Он прошел по проспекту Ататюрка, миновал мосты и грустно брел по направлению к самым бедным кварталам, когда почувствовал – и от этого на его глаза навернулись слезы, – что никто, кроме него, словно не замечает снега, падающего в тишине, которую ничто, кроме собачьего лая, не нарушает; снега, опускающегося на крутые горы, невидимые издалека, на лачуги, сливающиеся с историческими руинами, и на крепость, построенную во времена сельджуков; снега, который словно рассыпался в безграничном времени. В квартале Юсуф-паши Ка понаблюдал за подростками лицейского возраста, игравшими в футбол на пустой площадке под фонарями, освещавшими соседний угольный склад, рядом с парком, где качели были оборваны, а горки сломаны. Стоя под снегом в бледно-желтом свете фонарей и слушая приглушенные снегом крики и споры детей, он с такой силой почувствовал невероятное безмолвие и удаленность этого уголка мира от всего на свете, что на ум ему пришла мысль о Боге.
В этот первый миг это была скорее картинка, нежели мысль, но она была нечеткой, как рисунок, на который мы бездумно смотрим, когда торопливо проходим по залам музея, а затем пытаемся вспомнить, но никак не можем его себе представить. Гораздо ярче, чем картинка, было ощущение, которое появилось на какой-то миг и исчезло, – и такое происходило с Ка не в первый раз.
Ка вырос в Стамбуле в светской республиканской семье и не получил никакого мусульманского образования, кроме уроков религии в начальной школе. Когда в последние годы у него в голове порой возникали образы, похожие на тот, что появился сейчас, его не охватывало волнение и он ни разу не испытал поэтического вдохновения, которое увлекло бы его вслед этому видению. Самое большее, в такие моменты у него рождалась оптимистическая мысль о том, что мир – это прекрасное место, достойное того, чтобы его увидеть.
В номере отеля, куда Ка вернулся погреться и немного вздремнуть, он с этим же чувством счастья перелистал книги по истории Карса, привезенные из Стамбула, и эта история, напомнившая ему детские сказки, смешалась у него в голове с тем, что он услышал в течение дня.
Когда-то в Карсе жили обеспеченные люди, которые устраивали приемы, длившиеся целые дни, давали балы в своих особняках, отдаленно напоминавших Ка о годах его детства. Сила этих людей зиждилась на том, что Карс находился на торговом пути в Тебриз, на Кавказ, в Грузию и в Тифлис, а также на том, что город был важным рубежом для двух великих империй, Османской и Российской, рухнувших в последнее столетие; чтобы охранять это место среди гор, империи поставили здесь большие армии. В османские времена в этих краях жили люди самых разных национальностей: армяне, тысячу лет назад воздвигшие церкви, часть которых и сейчас стоит во всем своем великолепии; персы, бежавшие от монгольского нашествия и иранских армий; греки, потомки подданных Понтийского царства и Византии; грузины, курды и черкесы из множества племен. После того как в 1878 году крепость, построенная пятьсот лет назад, сдалась русским войскам, часть мусульман была изгнана, однако город оставался богатым и многоликим. В русский период, когда особняки пашей, бани и османские здания, стоявшие в квартале Кале-Ичи, рядом с крепостью, начали ветшать, царские архитекторы возвели в южной долине речки Карс новый город, в котором было пять параллельных проспектов, пересекавших другие улицы под идеально прямым углом, – явление, невиданное ни в одном другом восточном городе. Этот быстро богатевший город, куда приезжал царь Александр III, чтобы встретиться со своей тайной возлюбленной и поохотиться, давал возможность русским двигаться на юг, к Средиземному морю, и захватить торговые пути, так что не удивительно, что на его строительство не пожалели средств. Именно этот Карс, печальный город, улицы которого были вымощены крупной брусчаткой и усажены в республиканский период дикими маслинами и каштанами, очаровал Ка двадцать лет назад – а не деревянный османский город, полностью сгоревший и разрушенный во время войн между народами и племенами.
После нескончаемых войн, произвола, массовой резни и восстаний, когда город оказывался в руках то армянской, то русской, то даже на какое-то время английской армий, после того как на короткий период Карс стал независимым государством, в октябре 1920 года в него вошла турецкая армия под командованием Казыма Карабекира, статую которого впоследствии установили на привокзальной площади. Турки, сорок три года спустя вновь взявшие Карс и поселившиеся в нем, не стали менять царский план города и культуру, которую принесли в город цари, также постарались усвоить, поскольку она соответствовала республиканскому энтузиазму европеизации, а пять русских проспектов переименовали в честь пятерых известных в истории Карса полководцев, поскольку не знали никого более великого, чем военные.
О тех годах европеизации с гордостью, горячась, рассказывал Ка бывший мэр, член Народной партии Музаффер-бей. В народных домах давались балы, под железным мостом (теперь, как заметил утром Ка, местами проржавевшим и прогнившим) устраивались соревнования по катанию на коньках; приехавших из Анкары сыграть трагедию «Царь Эдип» актеров встречали бурные аплодисменты представителей республикански настроенного среднего класса (хотя со времени войны с Грецией еще не прошло и двадцати лет); богачи, носившие пальто с меховым воротником, выезжали на прогулки в санях, запряженных здоровыми венгерскими скакунами, украшенными розами и звездами; на балах в поддержку футбольной команды, устраивавшихся под акациями в Национальном парке, под аккомпанемент фортепиано, аккордеона и кларнета танцевали самые модные танцы; летом девушки Карса надевали платья с короткими рукавами и совершенно спокойно могли ездить по городу на велосипедах, а юноши, прибегавшие зимой в лицей на коньках, надевали с пиджаками галстук-бабочку, подобно многим своим сверстникам, восторженным сторонникам республиканского строя. Спустя долгие годы, когда адвокат Музаффер-бей вернулся в Карс в качестве кандидата на пост мэра и в предвыборной горячке вновь захотел надеть бабочку, его товарищи по партии заявили, что из-за этого «щегольства» он потеряет много голосов, но он не послушался.
Между тем, что в Карсе давно уже не бывало длинных суровых зим, и тем, что город ветшал и становился все более бедным и несчастным, словно бы существовала некая связь. Вспомнив прекрасные зимы прошлых лет, бывший мэр рассказал о полуголых напудренных актрисах, приезжавших из Анкары и игравших в греческих пьесах, и об одном революционном спектакле, поставленном в конце сороковых в Народном доме молодыми людьми, среди которых был и он сам. «В этом произведении рассказывалось о пробуждении одной нашей девушки, носившей черный чаршаф[12], и о том, как она в конце концов снимает его с головы и сжигает», – сказал он. Поскольку в конце сороковых годов во всем Карсе они никак не могли, как ни старались, найти необходимый для пьесы черный чаршаф, пришлось позвонить в Эрзурум и привезти его оттуда. «А сейчас девушки в чаршафах и платках заполонили улицы Карса, – добавил Музаффер-бей. – Они кончают жизнь самоубийством, потому что из-за этого символа политического ислама на голове не могут попасть на занятия».
Как и всякий раз, когда во время встреч в Карсе речь заходила об усилении политического ислама и девушках в платках, Ка промолчал, не задал возникших у него вопросов и не стал задумываться над тем, почему пылкие молодые люди устроили представление против чаршафа, хотя во всем Карсе в 1940 году не было ни одной женщины в чаршафе. Целый день бродя по улицам города, Ка не обращал внимания на женщин в чаршафах или платках, потому что за одну неделю еще не успел приобрести способность и привычку, свойственную светским интеллигентам: делать политические выводы, исходя из количества женщин с покрытой головой. Собственно говоря, он с самого детства не обращал внимания на улице на таких женщин. В европеизированных кварталах Стамбула, где Ка провел детство, женщина в платке могла быть только жительницей пригорода, например Картала, приехавшей в город, чтобы продать выращенный в своем саду виноград, или женой молочника, или еще кем-нибудь из низших сословий.
О прежних хозяевах отеля «Кар-палас», где остановился Ка, я впоследствии слышал много историй: среди них был и университетский профессор, большой ценитель всего европейского, которого царское правительство вместо Сибири отправило сюда, в более легкую ссылку, и армянин, торговавший крупным рогатым скотом; позже здесь расположился греческий сиротский приют… Кто бы ни был первым хозяином этого здания, возведенного сто десять лет назад, отопление в нем изначально было устроено по тому же принципу, что и в других домах Карса того времени: в стены были встроены печи, четыре стороны которых выходили в четыре разные комнаты и могли обогревать их одновременно. В республиканский период турки так и не научились пользоваться ни одной из этих печей, и первый хозяин-турок, который переделал дом под отель, перед входной дверью во двор разместил огромную печь из латуни, а в комнаты позже провел паровое отопление.
Когда Ка, растянувшись на кровати в пальто, погрузился в свои мысли, в дверь постучали. Это был Джавит, который проводил весь день, сидя у печки и глядя в телевизор. Он сказал, что, когда отдавал ключ, забыл кое-что передать.
– Совсем забыл: вас срочно ждет Сердар-бей, владелец газеты «Серхат шехир».
Они вместе спустились в холл. Ка уже собрался выходить, как вдруг остановился: рядом со стойкой администратора открылась дверь, вошла Ипек, и она была гораздо красивее, чем Ка себе представлял. Он сразу же вспомнил, насколько была красива эта девушка в университетские годы. Внезапно Ка заволновался. Конечно, ведь она была такой красивой. Как полагается европеизированным стамбульским буржуа, они сначала пожали друг другу руки и, немного поколебавшись, обнялись и поцеловались, вытянув шеи, но не приближаясь друг к другу телами.
– Я знала, что ты приедешь, – слегка отодвинувшись, сказала Ипек с удивившей Ка откровенностью. – Танер позвонил и сказал. – Она смотрела прямо ему в глаза.
– Я приехал из-за выборов мэра и девушек-самоубийц.
– Сколько ты здесь пробудешь? – спросила Ипек. – Рядом с отелем «Азия» есть кондитерская «Йени хайят»[13]. Я сейчас занята с отцом. Давай встретимся там в половине второго, посидим и поговорим.
Ка чувствовал, что во всей этой сцене есть что-то странное, потому что она происходит не в Стамбуле, например в Бейоглу[14], а в Карсе. Он не мог понять, в какой степени его волнение вызвано красотой Ипек. Он вышел на улицу и, пройдя некоторое время под снегом, подумал: «Хорошо, что я взял это пальто».
Пока он шел в редакцию, его сердце с поразительной точностью подсказало ему две вещи, которые никогда не признал бы его разум. Первое: Ка приехал из Франкфурта в Стамбул не только для того, чтобы успеть на похороны матери, но и затем, чтобы спустя двенадцать лет одинокой жизни за границей найти девушку-турчанку, на которой ему предстоит жениться. Второе: Ка приехал из Стамбула в Карс, потому что втайне верил в то, что именно Ипек и есть та самая девушка.
Если бы этой второй мыслью с Ка поделился какой-нибудь проницательный друг, Ка никогда не простил бы его и всю оставшуюся жизнь винил бы себя и стыдился того, что это предположение верно. Ка был из моралистов, убедивших себя в том, что самое большое счастье приходит к тому, кто ничего не делает для счастья преднамеренно. К тому же его прекрасная западная образованность никак не увязывалась с намерением искать кого-то, кого он очень мало знает, чтобы жениться. Как бы то ни было, он пришел в редакцию «Серхат шехир», не испытывая беспокойства. Их первая встреча с Ипек оказалась даже теплее, чем он, сам того не замечая, все время представлял себе, пока ехал из Стамбула.
Редакция находилась на проспекте Фаик-бея, через улицу от отеля, и ее общая площадь вместе с типографией была чуть больше, чем у маленького номера Ка. Комната была разделена на две части перегородкой, на которой были развешены портреты Ататюрка, календари, образцы визитных карточек и свадебных приглашений, фотографии приезжавших в Карс видных государственных деятелей и известных турок, сделанные Сердар-беем, а также заключенная в рамку фотография первого номера газеты, вышедшего сорок лет назад. Позади с приятным шумом работала электрическая педальная типографская машина, сто десять лет назад сделанная в Лейпциге фирмой «Бауманн». Проработав в Гамбурге четверть века, она была продана в Стамбул в 1910 году, в период свободы печати, наступивший после младотурецкой революции. После сорока пяти лет работы в Стамбуле она была уже готова отправиться в металлолом, но вместо этого покойный отец Сердар-бея привез ее в 1955 году на поезде в Карс. Двадцатидвухлетний сын Сердар-бея, послюнив палец правой руки, скармливал машине чистую бумагу, а левой рукой ловко собирал листы отпечатанной газеты (сборник для бумаги был сломан одиннадцать лет назад во время ссоры с братом), но все же смог улучить мгновение, чтобы поприветствовать Ка. Второй сын, который, как и его брат, был похож не на отца, а на свою низкорослую, полную, круглолицую и узкоглазую мать, образ которой всплыл в памяти Ка, сидел за черным от краски станком перед бесчисленными маленькими ящичками с сотней отделений, среди болванок, клише, свинцовых букв разных размеров и с терпением каллиграфа, отвергшего мирские соблазны, старательно, вручную, набирал рекламу для газеты, которая должна была выйти через три дня.
– Вы видите, в каких условиях борется за существование пресса Восточной Анатолии, – сказал Сердар-бей.
В это время отключили электричество. Когда типографская машина остановилась и комнатка погрузилась в волшебную темноту, Ка увидел, как прекрасна белизна падающего за окном снега.
– Сколько экземпляров получилось? – спросил Сердар-бей. Он зажег свечку и усадил Ка на стул неподалеку от двери.
– Сто шестьдесят, папа.
– Когда дадут свет, сделай триста сорок, сегодня у нас гости-актеры.
Газета «Серхат шехир» в Карсе продавалась только в одном месте, напротив Национального театра, в магазинчике, куда за день заходили ее купить не более двадцати человек, однако, как с гордостью говорил Сердар-бей, благодаря подписчикам общий тираж составлял триста экземпляров. Две сотни из этих подписчиков были предприятия и государственные организации Карса, их время от времени Сердар-бей вынужден был хвалить за успехи. Оставшиеся восемьдесят были теми «порядочными и важными» людьми, к словам которых прислушиваются в государстве и которые, уехав из Карса, поселились в Стамбуле, но не порывали связь с родным городом.
Дали свет, и Ка увидел, что на лбу Сердар-бея от гнева вздулся сосуд.
– После того как вы от нас ушли, вы встречались с неправильными людьми и получили неверные сведения о нашем приграничном городе, – сказал Сердар-бей.
– Откуда вы знаете, куда я ходил? – спросил Ка.
– За вами, разумеется, следила полиция, – ответил журналист. – А мы по профессиональной необходимости слушаем разговоры полицейских по рации. Девяносто процентов новостей, которые выходят в нашей газете, нам предоставляет губернская администрация и Управление безопасности. Все управление знает, о чем вы всех спрашивали: почему Карс бедный и отсталый, почему девушки покончили с собой.
Ка слышал довольно много объяснений тому, почему Карс так обеднел. Сокращение торговли с Советским Союзом в годы холодной войны, закрытие пропускных пунктов на границе, банды коммунистов, правившие в 1970-х годах в городе, угрожавшие богатым и похищавшие их, отъезд всех, кто скопил хотя бы небольшой капитал, в Стамбул и Анкару, нескончаемые конфликты Турции и Армении… Еще говорили, что о Карсе забыли и государство, и Аллах.