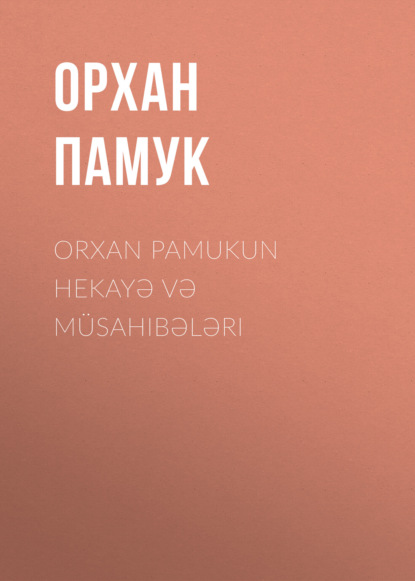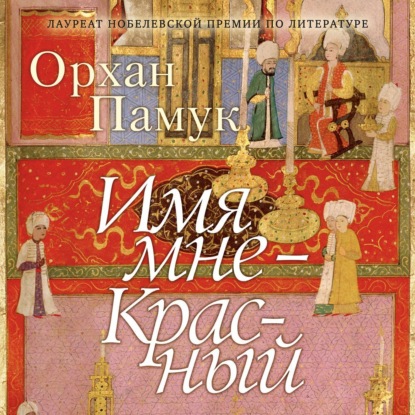Полная версия
Снег
– Я решил рассказать вам, как все обстоит на самом деле, – сказал Сердар-бей.
Ка сразу понял – с отчетливостью и надеждой, которых не чувствовал уже много лет, – что подлинной темой разговора будет стыд. В течение многих лет, прожитых в Германии, и для него самого эта тема была главной, однако он скрывал от самого себя, что чего-то стыдится. Теперь же, благодаря тому, что у него появилась надежда на счастье, он мог признаться себе в этом.
– Раньше мы здесь все были братьями, – сказал Сердар-бей так, словно открывал какую-то тайну. – Но в последние годы каждый стал говорить: «Я – азербайджанец», «Я – курд», «Я – туркмен». Конечно же, здесь есть люди всех национальностей. Туркмены-кочевники, мы их еще называем «кара-папаки», – братья азербайджанцев. Курды – мы их называем «племенем», раньше никто не знал о том, что есть курды. Из тех местных, что жили здесь со времен Османской империи, никто не гордился тем, что он местный. Туркмены, кыпчаки с лазами и татарами из Ардахана, немцы, сосланные царем из России, – все жили, и никто не гордился тем, что он тот, кто есть. Это высокомерие нам внушило ереванское и бакинское коммунистическое радио, чтобы разделить и разрушить Турцию. Сейчас все стали бедными и горделивыми.
Решив, что Ка уже находится под впечатлением от услышанного, Сердар-бей перевел разговор на другую тему:
– Сторонники введения религиозных порядков ходят от двери к двери, целой компанией приходят к вам в дом, раздают женщинам кухонную утварь, посуду, соковыжималки для апельсинов, мыло коробками, крупу, стиральный порошок, сразу завязывают дружбу с жителями бедных кварталов, прикалывают булавками на плечи детям золотые кружочки. «Отдайте ваш голос за Партию благоденствия, которую называют Партией Аллаха, – говорят они, – наша бедность и нищета из-за того, что мы свернули с пути Аллаха». С мужчинами разговаривают мужчины, с женщинами – женщины. Они завоевывают доверие озлобленных, униженных безработных, они радуют их жен, которые не знают, что сварить в кастрюле на ужин, а затем, пообещав новые подарки, заставляют поклясться голосовать за них. Они завоевывают уважение не только самых бедных, которых унижают с утра до вечера, но и студентов, в чьи желудки только раз в день попадает порция горячего супа, рабочих и даже мелких торговцев, потому что они самые трудолюбивые, честные и скромные.
Владелец газеты «Серхат шехир» сказал, что прежнего мэра ненавидели не за то, что ему взбрело в голову убрать с улиц старые извозчичьи фаэтоны, потому что они «несовременны» (поскольку его убили, дело было сделано только наполовину), а из-за беспутства и взяток. Но ни одна из правых или левых светских партий, разобщенных старой кровной враждой и этническими противоречиями и ослабленных ожесточенным соперничеством, так и не смогла выдвинуть достойного кандидата на пост мэра.
– Люди верят только в порядочность кандидата от Партии Аллаха, – сказал Сердар-бей. – А это Мухтар-бей, бывший муж Ипек-ханым, дочери хозяина вашего отеля. Он не очень умен, но он курд. А курдов здесь – сорок процентов населения. Выборы выиграет Партия Аллаха.
Все усиливающийся снег вновь пробудил в Ка чувство одиночества, сопровождаемое страхом, что той части общества, в которой он воспитывался и рос в Стамбуле, и вообще европейскому образу жизни в Турции пришел конец. В Стамбуле он увидел, что улицы, где он провел детство, разрушены, старые красивые дома начала века, в которых жили некоторые его друзья, снесены, деревья его детства засохли и срублены, а кинотеатры за последние десять лет закрылись и один за другим были переделаны в тесные и мрачные магазины одежды. Это означало конец не только мира его детства, но и конец его мечте о том, что однажды он снова будет жить в Стамбуле. Он подумал о том, что если в Турции утвердится шариатская власть, то его сестра даже не сможет выйти на улицу, не покрыв головы. Глядя на огромные снежинки, медленно, словно в сказке, падающие в неоновом свете, льющемся из окон редакции «Серхат шехир», Ка представил, что он вернулся во Франкфурт с Ипек. Они вместе делают покупки в «Кауфхофе», где он приобрел это пепельно-серое пальто, в которое сейчас так плотно кутается, только на втором этаже, там, где продают женскую обувь.
– Это часть международного исламистского движения, которое хочет уподобить Турцию Ирану.
– И девушки-самоубийцы тоже? – спросил Ка.
– Мы получаем сведения о том, что девушек, к сожалению, убеждали совершать самоубийства, но мы об этом не пишем, понимая свою ответственность, поскольку это может еще сильнее повлиять на девушек и самоубийств станет еще больше. Говорят, что в нашем городе находится известный исламский террорист Ладживерт[15], желающий вразумить девушек в платках, девушек-самоубийц.
– Разве исламисты не противники самоубийств?
Сердар-бей ничего не ответил. Типографская машина остановилась, в комнате стало тихо, и Ка посмотрел на нереальный снег, падающий за окном. Действенным средством против усиливающегося беспокойства и страха из-за предстоящей встречи с Ипек было бы озаботиться бедами Карса. Но сейчас Ка, думая уже только об Ипек, хотел подготовиться к встрече, потому что было уже двадцать минут второго.
Сердар-бей, словно вручая старательно заготовленный подарок, разложил перед Ка первую полосу свежеотпечатанной газеты, которую принес его рослый старший сын. Глаза Ка, за многие годы привыкшие искать и находить в литературных журналах его имя, сразу остановились на заметке в углу страницы:
НАШ ИЗВЕСТНЫЙ ПОЭТ КА В КАРСЕИзвестный во всей Турции поэт КА вчера приехал в наш приграничный город. Наш молодой поэт, обладатель премии Бехчета Неджатигиля, завоевавший одобрение всей страны своими книгами «Зола и мандарины» и «Вечерние газеты», будет следить за ходом выборов от имени газеты «Джумхуриет». Поэт КА уже много лет изучает западную поэзию в немецком городе Франкфурте.
– Мое имя неправильно набрали, – сказал Ка. – «А» должна быть маленькой. – Сказав это, он сразу раскаялся. – Хорошо получилось, – сказал он, чувствуя себя в долгу.
– Мастер, мы искали вас потому, что не были уверены, правильно ли написали ваше имя, – ответил Сердар-бей. – Сынок, смотри, сынок, вы неправильно набрали имя нашего поэта, – совершенно безмятежным голосом сделал он выговор своим сыновьям. Ка почувствовал, что эту ошибку в наборе Сердар-бей замечает не в первый раз. – Немедленно исправьте…
– Зачем? – спросил Ка. На этот раз он увидел свое имя правильно набранным в последней строчке самой большой новостной заметки:
ТРИУМФ ТРУППЫ СУНАЯ ЗАИМА В НАЦИОНАЛЬНОМ ТЕАТРЕВчера вечером в Национальном театре выступила труппа Суная Заима, пользующаяся во всей Турции известностью благодаря своим спектаклям в народном, кемалистском и просветительском духе. Представление, которое продолжалось до полуночи и на котором присутствовали заместитель губернатора, и. о. мэра и другие известные люди Карса, было встречено с большим интересом и воодушевлением. Спектакль то и дело прерывался бурными овациями и аплодисментами. Жители Карса, уже давно изголодавшиеся по такому искусству, до отказа заполнили Национальный театр, а также имели возможность посмотреть пьесу и у себя дома, потому что телевизионный канал «Серхат»[16], устроив первую за свою двухлетнюю историю прямую трансляцию, преподнес это великолепное зрелище всем жителям Карса. Таким образом, телевизионный канал «Серхат» впервые провел прямую нестудийную трансляцию. Поскольку у канала еще нет аппаратуры для таких трансляций, из студии на проспекте Халит-паши до камеры, установленной в Национальном театре, протянули кабель длиной в две улицы. Чтобы снег не повредил кабель, сознательные жители Карса разрешили провести его через свои дома. (Например, семья нашего зубного врача Фадыл-бея приняла шнур через окно балкона и протянула до внутреннего сада.) Жители Карса хотят, чтобы эту удачную прямую трансляцию повторили при следующем удобном случае. Представители телевизионного канала «Серхат» сообщили, что благодаря этой первой прямой трансляции, проведенной вне студии, все предприятия Карса смогли разместить свою рекламу в эфире. Во время представления, которое смотрел весь наш приграничный город, были разыграны пьесы, написанные в кемалистском духе, самые прекрасные отрывки из театральных произведений, являющихся плодом западной просвещенности, и сценки, критикующие рекламу, которая разъедает нашу культуру; со сцены прозвучал рассказ о приключениях знаменитого вратаря национальной сборной Вурала и стихи о родине и об Ататюрке, а известный поэт Ка, посетивший наш город, лично прочитал свое последнее стихотворение «Снег». Помимо всего прочего, зрители увидели просветительский шедевр первых лет республики «Родина или чаршаф», в новой трактовке получивший название «Родина или платок».
– У меня нет стихотворения под названием «Снег», а вечером я не пойду в театр. Ваша статья выйдет с ошибкой.
– Не будьте так уверены в этом. Уже не раз бывало так, что люди, смеявшиеся над нами за то, что мы сообщаем о событиях, которые еще не произошли, и думавшие, что то, что мы делаем, это не журналистика, а предсказания, не могли скрыть своего изумления, когда события развивались в точности так, как мы написали. Очень много событий произошло только потому, что мы заранее о них написали. Это современная журналистика. А вы, я уверен, чтобы не отнимать у нас наше право быть в Карсе современными и чтобы не огорчать нас, сначала напишете стихотворение «Снег», а затем пойдете и прочтете его.
Среди объявлений о предвыборных митингах, новостей о том, что в лицеях стали применять вакцину, привезенную из Эрзурума, и о том, что жителям Карса предоставлена очередная льгота в виде двухмесячной отсрочки задолженности за воду, Ка прочитал еще одну заметку, на которую сначала не обратил внимания.
СНЕГ ПЕРЕРЕЗАЛ ДОРОГИНе прекращающийся уже два дня снег перерезал сообщение нашего города со всем миром. Вчера утром была перекрыта дорога на Ардахан, а в полдень занесло и дорогу на Сарыкамыш. Автобус компании «Йылмаз», следовавший в Эрзурум, вернулся обратно в Карс, поскольку по причине сильного обледенения и снежных заносов часть пути оказалась закрытой для транспортного сообщения. Метеослужба сообщает, что холода, пришедшие из Сибири, и крупный снег не прекратятся еще три дня. Карс три дня будет жить собственными ресурсами, как это было в прошлые зимы. Это удобный момент для нас, чтобы навести порядок в наших делах.
Ка уже встал и собирался выходить, когда Сердар-бей вскочил и придержал дверь, чтобы Ка выслушал его последние слова.
– Кто знает, что расскажут вам Тургут-бей и его дочери, – сказал он. – Они сердечные люди, с которыми мы дружески общаемся по вечерам, но не забывайте: бывший муж Ипек-ханым – кандидат на пост мэра от Партии Аллаха. А ее сестра Кадифе[17], которую они с отцом привезли сюда учиться, говорят, самая фанатичная из всех девушек, которые носят платок. А ведь их отец – старый коммунист! До сих пор никто в Карсе не может понять, почему четыре года назад, в самые тяжелые для Карса дни, они приехали сюда.
Хотя Ка за один миг услышал много такого, что вполне могло лишить его покоя, он не подал виду.
4
Ты и в самом деле приехал изза выборов и самоубийств?
Ка и Ипек в кондитерской «Йени хайят»Почему на губах Ка была улыбка, пусть и почти неуловимая, когда он шел под снегом с проспекта Фаик-бея в кондитерскую «Йени хайят», несмотря на плохие новости, которые он узнал? Ему слышалась «Роберта» Пеппино ди Капри, он казался себе романтичным и печальным героем Тургенева, который идет на встречу с женщиной, образ которой рисовал себе много лет. Ка любил Тургенева, с тоской и любовью мечтавшего в Европе о своей стране, которую, презирая, покинул, устав от ее нескончаемых проблем и первобытной дикости, он любил его изящные романы, но скажем правду: он не рисовал себе образ Ипек в течение многих лет, как герои Тургенева. Он только представлял себе женщину, похожую на Ипек, возможно иногда вспоминая и ее саму. Но как только он узнал, что Ипек рассталась с мужем, он начал думать о ней, а сейчас, когда ему хотелось установить с Ипек глубокие и серьезные отношения, он старался восполнить музыкой, игравшей в его голове, и романтизмом Тургенева то упущение, что в свое время он не так часто думал о ней, как следовало бы.
Однако, как только он пришел в кондитерскую и сел за один столик с Ипек, он утратил весь свой тургеневский романтизм. Она была красивее, чем показалось ему в отеле, и красивее, чем выглядела в университетские годы. Ее подлинная красота, слегка подкрашенные губы, бледный цвет кожи, блеск глаз и сразу же располагающая к себе искренность взволновали Ка. В какой-то момент Ипек показалась ему настолько открытой, что Ка испугался, что сам он не сможет вести себя естественно. Больше, чем этого, он боялся в жизни только одного – писать плохие стихи.
– По дороге я видела рабочих, которые протягивали кабель для прямой трансляции из телестудии в Национальный театр, словно веревку для белья, – оживленно заговорила она. При этом она не улыбнулась, потому что не хотела, чтобы казалось, будто она презирает недостатки провинциальной жизни.
Некоторое время они, словно малознакомые люди, желающие лучше узнать друг друга, искали общие темы, на которые можно было бы спокойно поговорить. Когда одна тема была исчерпана, Ипек, улыбаясь, легко находила новую. Сыпавший снег, бедность Карса, пальто Ка, то, что они оба очень мало изменились, неудачные попытки бросить курить, люди, которых Ка видел в Стамбуле, таком далеком для обоих… У них умерли матери, и то, что обе они были похоронены в Стамбуле на кладбище Ферикёй, тоже, как им и хотелось, сближало их. С легкостью, похожей на ту, что на недолгое время возникает у мужчины и женщины, которые, узнав, что у них один и тот же знак Зодиака, чувствуют – пусть это чувство и ложно – некое родство душ, они говорили о месте матерей в их жизни (коротко), о причинах сноса старого вокзала в Карсе (немного дольше); о том, что на месте кондитерской, в которой они встретились, до 1967 года была православная церковь и что дверь разрушенной церкви сохранили в музее; об особом зале этого музея, посвященном армянским погромам (некоторые туристы ожидают, что экспозиция рассказывает об армянах, убитых турками, а затем понимают, что все наоборот); о единственном официанте кондитерской, наполовину глухом и похожем на призрака; о том, что в чайных Карса не подают кофе, потому что он дорог для безработных и они его не пьют; о политических взглядах журналиста, который сопровождал Ка, и настроениях других местных газет (все они поддерживали военных и существующее правительство); о завтрашнем номере «Серхат шехир», который Ка вытащил из кармана.
Когда Ипек начала внимательно читать первую полосу газеты, Ка испугался, что для нее, точно так же как и для его старых друзей в Стамбуле, единственная реальность – несчастный, убогий политический мир Турции, что она и на минуту не может представить себе жизнь в Германии. Он долго смотрел на маленькие руки Ипек, на ее изящное лицо, продолжая дивиться ее красоте.
– Тебя по какой статье осудили, на сколько лет? – спросила через некоторое время Ипек, ласково улыбаясь.
Ка сказал. Ближе к концу семидесятых в маленьких политических газетах Турции могли писать о чем угодно, и всех за это судили, и все гордились тем, что их судили по этой статье Уголовного кодекса, но в тюрьму никто не попадал, потому что полиция действовала нерешительно и не могла найти переводчиков, писателей и редакторов, постоянно менявших адреса. Спустя некоторое время, когда произошел военный переворот, тех, кто скрывался, стали потихоньку ловить, и Ка, осужденный за политическую статью, которую он писал не сам, но которую, не читая, опубликовал, бежал в Германию.
– Тебе было трудно в Германии? – спросила Ипек.
– Меня спасло то, что я не смог выучить немецкий, – ответил Ка. – Мое существо сопротивлялось немецкому, и в конце концов я сберег свою душу и чистоту мыслей.
Боясь показаться смешным из-за того, что внезапно рассказал обо всем, но счастливый тем, что Ипек его слушает, Ка поведал ей до тех пор никому не рассказывавшуюся историю молчания, в котором он похоронил себя, историю о том, что он уже четыре года не мог писать стихи.
– По вечерам в маленькой квартире, которую я снимаю недалеко от вокзала, с единственным окном, из которого открывается вид на крыши Франкфурта, я в безмолвии вспоминал счастливое время, оставшееся позади, и это заставляло меня писать стихи. Спустя какое-то время меня стали приглашать почитать стихи турецкие эмигранты, узнавшие, что в Турции я был немного известен как поэт, муниципалитеты, библиотеки и третьеразрядные школы, желавшие привлечь турок, и турецкие общины, хотевшие, чтобы дети познакомились с поэтом, пишущим по-турецки.
Ка садился во Франкфурте на один из немецких поездов, постоянно поражавших его точностью расписания и порядком, и, проезжая мимо изящных колоколен отдаленных городков, мимо темноты в сердце буковых рощ и мимо здоровых детей, возвращающихся домой со школьными рюкзаками на спине, сквозь затуманенные окна ощущал все то же безмолвие, чувствовал себя как дома, поскольку совсем не понимал языка этой страны, и писал стихи. Если он не ехал в другой город читать стихи, тогда он каждое утро выходил из дому в восемь и, пройдя по Кайзерштрассе, шел в муниципальную библиотеку на проспекте Цайля и читал. «Там было столько английских книг, что мне хватило бы на двадцать жизней». Подобно детям, которые знают, что смерть еще очень далеко, он спокойно читал все, что ему хотелось: романы девятнадцатого века, которые обожал, английских поэтов-романтиков, книги по истории инженерного дела, музейные каталоги. Сидя в муниципальной библиотеке, он переворачивал страницы, заглядывал в старые энциклопедии, задерживался на какое-то время на иллюстрациях, вновь перечитывал романы Тургенева и, несмотря на то что слышал шум города, внутри себя ощущал то же безмолвие, что и в поезде. И когда по вечерам, изменив маршрут, он брел вдоль реки Майн мимо Еврейского музея и когда по выходным бродил из одного конца города в другой, все то же безмолвие сопровождало его.
– Через некоторое время оно стало занимать в моей жизни так много места, что я перестал слышать беспокоящий шум, с которым мне нужно было бороться, чтобы писать стихи, – сказал Ка. – С немцами я вообще не разговаривал. А отношения с турками, которые считали меня и умником, и интеллектуалом, и полусумасшедшим, у меня уже были не очень хорошими. Я ни с кем не встречался, ни с кем не разговаривал и стихи тоже не писал.
– Но в газете пишут, что сегодня вечером ты прочитаешь свое самое последнее стихотворение.
– У меня нет самого последнего стихотворения, так что не прочитаю.
В кондитерской, кроме них, было еще двое. За столиком у противоположной стены, рядом с окном, в полумраке сидели невзрачный молодой человек и терпеливо пытающийся ему что-то объяснить мужчина средних лет, худощавый и усталый. В огромном окне у них за спиной были видны летящие в темноту хлопья снега, на которые падал розоватый свет от неоновых букв вывески кондитерской, и на этом фоне два погруженных в разговор человека в противоположном углу казались частью скверного черно-белого фильма.
– Моя сестра Кадифе неудачно сдала экзамены в университете за первый год, – сказала Ипек. – На второй год она выдержала экзамены в здешний педагогический институт. Худой человек, сидящий вон там, за моей спиной, в самом углу, – директор института. Отец очень любит мою сестру. После гибели матери в автомобильной аварии он остался один и решил приехать сюда, к нам. Это было три года назад. Вскоре я рассталась с Мухтаром. Мы стали жить все вместе. Здание отеля, наполненное призраками и вздохами умерших, принадлежит нам совместно с родственниками. В трех комнатах живем мы.
В годы активной деятельности левых организаций, студентами, Ка и Ипек не были близко знакомы. Правда, Ка, как и многие другие, сразу обратил внимание на семнадцатилетнюю красавицу в коридорах факультета литературы, где такие высокие потолки. На следующий год он знал Ипек уже как жену Мухтара, своего друга-поэта, с которым они состояли в одной ячейке; тот, как и Ипек, был родом из Карса.
– Мухтар унаследовал от своего отца семейное дело, торговлю продукцией компаний «Арчелик» и «Айгаз», – сказала Ипек. – За все эти годы, после того как мы вернулись сюда, у нас так и не появилось детей. Он начал возить меня к врачам в Стамбул, в Эрзурум, и расстались мы потому, что детей не было. Но Мухтар, вместо того чтобы снова жениться, посвятил себя религии.
– Почему все посвящают себя религии? – спросил Ка.
Ипек не ответила, и какое-то время они смотрели черно-белый телевизор на стене.
– Почему в этом городе все совершают самоубийства? – спросил Ка.
– Не все, а молодые девушки и женщины, – ответила Ипек. – Мужчины посвящают себя религии, а женщины кончают с собой.
– Почему?
Ипек посмотрела на него так, что Ка почувствовал, что в его вопросе, заставившем ее торопливо искать ответ, было нечто неуважительное и бесцеремонное. Они немного помолчали.
– Я должен встретиться с Мухтаром, чтобы взять у него интервью о выборах, – сказал Ка.
Ипек сразу встала и, подойдя к кассе, позвонила по телефону.
– Он тебя ждет, – сказала она, вернувшись и усаживаясь. – До пяти часов в областном отделении партии.
Наступила пауза, и Ка заволновался. Если бы дороги не были засыпаны снегом, он бежал бы отсюда первым же автобусом. Ка чувствовал глубокую жалость к городу, его вечерам и забытым людям. Он невольно перевел взгляд за окно, и они оба долгое время смотрели на падавший снег, как люди, у которых достаточно времени, чтобы не обращать внимания на течение жизни. Ка чувствовал себя беспомощным.
– Ты и в самом деле приехал из-за выборов и самоубийств? – спросила Ипек.
– Нет, – ответил Ка. – Я узнал в Стамбуле, что ты развелась с Мухтаром. Я приехал сюда, чтобы на тебе жениться.
Сначала Ипек засмеялась, приняв это за милую шутку, но потом густо покраснела. После долгой паузы он почувствовал по глазам Ипек, что она видит его насквозь. «У тебя даже нет терпения, чтобы хоть ненадолго скрыть свое намерение, как-то подружиться со мной, поухаживать, – говорили глаза Ипек. – Ты приехал сюда не потому, что любишь меня и думаешь обо мне, а потому, что узнал, что я развелась, а ты помнишь мою красоту и считаешь, что я нахожусь в трудном положении из-за того, что живу в Карсе».
Твердо решив наказать себя за бессовестное желание счастья, из-за которого его уже мучил стыд, Ка представил и другую безжалостную мысль Ипек о них обоих: «Нас объединяет то, что наши ожидания и мечты не сбылись». Но Ипек ответила совершенно не так, как ожидал Ка.
– Я всегда верила, что ты будешь хорошим поэтом. У тебя отличные книги, поздравляю.
Как и во всех чайных, закусочных и отелях Карса, здесь на стенах тоже висели виды не окрестных гор, которыми местные жители очень гордились, а Швейцарских Альп. Пожилой официант, который недавно принес чай, сидел в окружении блюд с шоколадом и пирожками, сверкавшими маслом и позолоченной бумагой в тусклом свете ламп, рядом с кассой, лицом к Ка и Ипек, спиной к другим столам, и с довольным видом смотрел черно-белый телевизор на стене. Ка, готовый смотреть куда угодно, кроме глаз Ипек, сосредоточился на фильме. В фильме турецкая актриса, блондинка в бикини, убегала по песчаному берегу, а двое усатых мужчин ее ловили. Между тем в полумраке у противоположной стены маленький человек поднялся с места и, направив пистолет на директора педагогического института, начал говорить что-то, что Ка не мог расслышать. Потом Ка понял, что, когда директор начал отвечать, тот выстрелил. Он понял это не по звуку выстрела, который слышал неотчетливо, а потому, что увидел, как от удара вонзившейся в тело пули директор упал со стула.
Ипек повернулась и тоже наблюдала сцену, за которой следил Ка.
Официанта на том месте, где только что видел его Ка, уже не было. Маленький человек вышел из-за столика и направил пистолет на директора, лежавшего на полу. Тот что-то ему говорил. Из-за того, что у телевизора был включен звук, разобрать его слова было невозможно. Маленький человек выстрелил в директора еще три раза и мгновенно исчез, выйдя в дверь, находившуюся за его спиной. Ка так и не увидел его лица.
– Пойдем, – сказала Ипек. – Не надо оставаться здесь.
– Ловите! – закричал Ка осипшим голосом. Потом сказал: – Давай позвоним в полицию, – но не мог сдвинуться с места. И сразу же после этого побежал за Ипек.
В двустворчатых дверях кондитерской «Новая жизнь» и на лестнице, по которой они быстро спустились, никого не было.
В один миг они оказались на покрытой снегом мостовой и пошли очень быстро. Ка думал: «Никто не видел, как мы оттуда вышли», это его успокаивало, потому что он чувствовал себя так, будто сам совершил преступление. Его намерение жениться, в котором он теперь раскаивался, и стыд оттого, что сказал об этом, словно навлекли на него заслуженное наказание. Теперь ему не хотелось никого видеть.