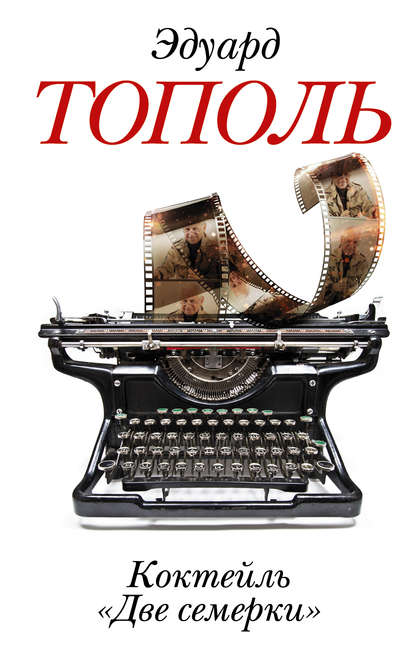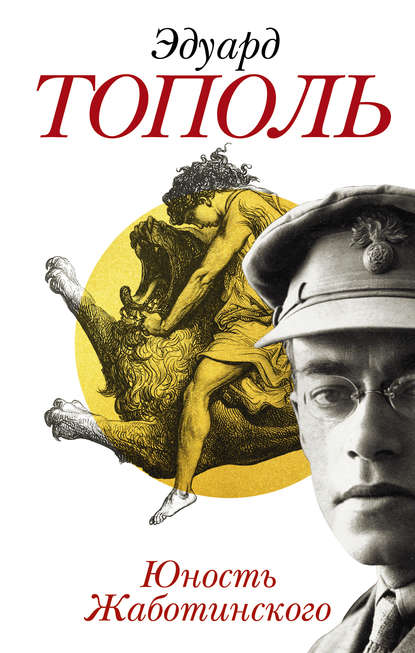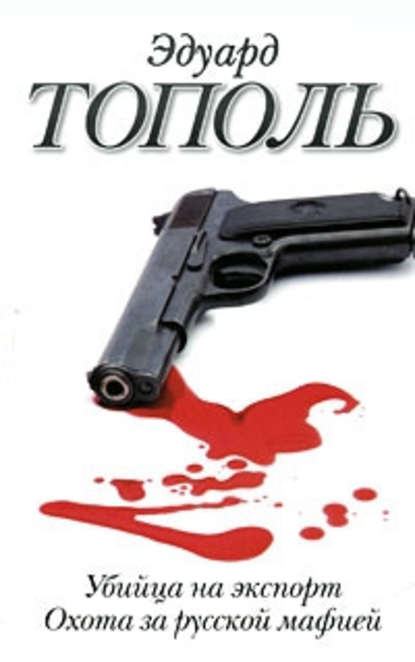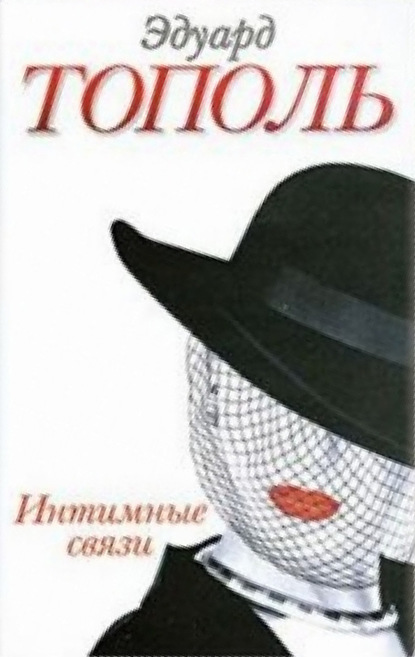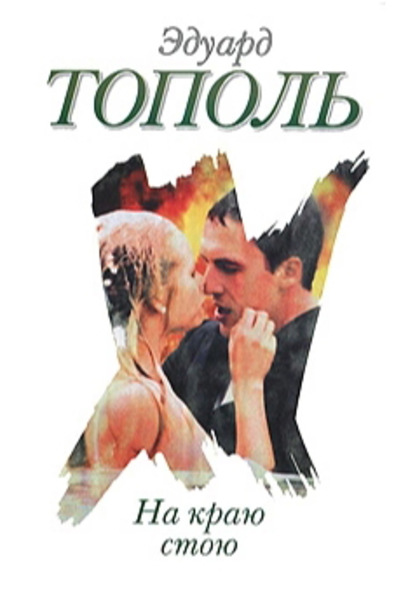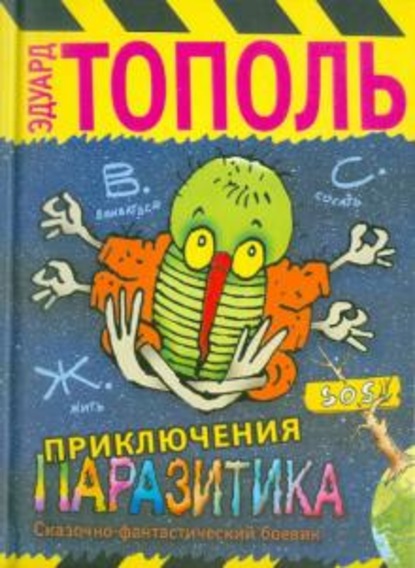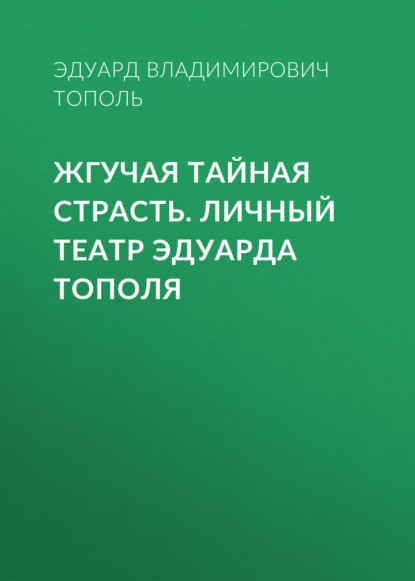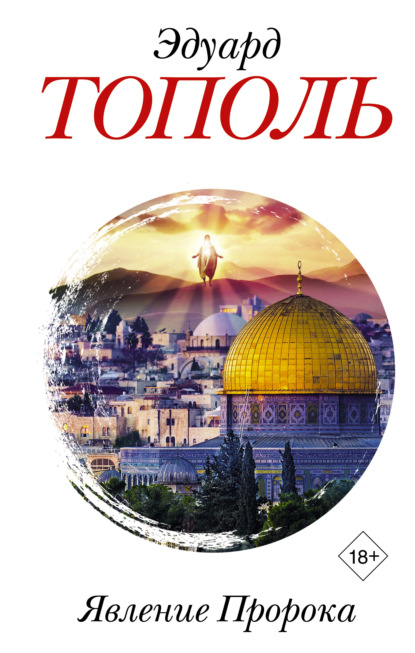Полная версия
Влюбленный Достоевский

Эдуард Тополь
Влюбленный Достоевский
Сборник
От автора
Три года назад, когда я писал «Игру в кино», я искренне считал, что давным-давно расстался с кинематографом и могу этой книгой подвести итог своей кинобиографии. Издатель воспринял эти мемуары без всякого энтузиазма: мемуары – вещь некоммерческая. Но, как ни странно, «Игра в кино» оказалась живучей, как серый утенок – изданная поначалу крохотным тиражом, она выдержала уже с десяток допечаток. Одновременно – по закону «never say never» – судьба самым банальным драматургическим рондо вдруг закольцевала меня идеей фильма о первой любви Достоевского, мюзиклом о Тверской и другими кинозатеями.
Таким образом родился этот сборник – в него вошли сценарии и пьесы, написанные в моей первой, подсоветской жизни, и вещи, родившиеся только что, в моей третьей жизни, постэмигрантской.
Любовь с первого взгляда
Литературный сценарий
…А был он молод, он был непристойно молод – пятнадцать с половиной лет. И поэтому он еще гонял в футбол с мальчишками нашей улицы. Я помню ее и вижу – нашу Бондарную улицу, этот раскаленный асфальт узкой мостовой и каменный коридор приплюснутых друг к другу домов с плоскими крышами, залитыми киром – смесью битума и асфальта.
Днем здесь – душное пекло, жар источают и дома, и мостовая, а кир, расплавившись на солнце, стекает по водосточным трубам, как густой черный мед. В руках у кирщиков длинные стальные мешалки-ковши, а сами они измазаны копотью и похожи на сталеваров, и горький дым из котла плывет по улице и никуда не уплывает, поскольку ветра нет и уплыть дыму некуда, разве что в открытые окна квартир и в балконные двери.
В квартирах дым оседает копотью на белые скатерти и покрывала, на лаваш и мацони, которым с утра до ночи пичкают многочисленных грудных и негрудных детей нашей улицы. И когда чернеют белые тюлевые занавески и копоть вместе с изюмом плавает в манной каше или в черную крапинку рябит только что выстиранное и вывешенное для сушки белье – шумней шумного становится на нашей и без того не тихой улице. Разъяренные старухи, давно опустившие чадру с лица на плечи, перегнувшись через перила балконов, осыпают проклятиями флегматичных кирщиков и заодно с ними мальчишек, гоняющих в футбол. Только в южных городах, пестрых от многоязыковой смеси, можно услышать такие красивые и звучные проклятия, расцвеченные, как палас, ругательствами всех закавказских языков плюс великий и могучий язык старшего северного брата. О, эти проклятия – воистину гремучая смесь!
Однако ни кирщики, ни мальчишки не обращают на ругань никакого внимания. Кирщики молча варят асфальт, а мальчишки шумно играют в футбол, не замечая ни бранящихся старух, ни прохожих и вылавливая свой мяч чуть ли не из-под колес машин, изредка проезжающих по нашей улице.
Да, я помню тебя и вижу, Бондарная улица. И этот ежедневный – с утра до ночи – футбол, в него играли не только мальчишки, но и двадцатилетние отцы тех самых грудных детей, которых молодые мамаши кормили манной кашей с копотью. Нет, возрастной ценз не существовал на этом футбольном поле, то есть, простите, на этой футбольной мостовой нашей улицы. Даже сорокалетний дебил Мустафа играл с мальчишками в футбол на равных…
…В этот апрельский день они тоже играли в футбол. Они гоняли мяч с тем азартом, с каким могут гонять мяч мальчишки, когда им от десяти до сорока. И он – Мурат – ничем не отличался от них, в нем даже роста, как на грех, было 166 сантиметров, да так и осталось на всю жизнь 166, ну разве потом, после армии, прибавилось еще пару. И он был такой же черный, как все, вернее – такой же грязный и смуглый, с разгоревшимися от азарта углями черных глаз. Наверно, он и в футбол играл не хуже и не лучше других, потому что забил мяч не в ворота, а на наш балкон. Впрочем, мяч попадал на наш балкон регулярно, и никакого ЧП в том не было. Поэтому, когда кто-нибудь из нас был дома и снизу раздавался свист, мы выходили на балкон, спокойно сбрасывали мяч, и игра под нашими окнами продолжалась. А когда никого из нас не было дома, мальчишки взбирались на наш балкон по проходящей рядом водосточной трубе, и достать мяч должен был тот, кто забил его.
Мурат забил мяч на наш балкон, сунул два пальца в рот и свистнул, но на балкон никто не вышел, и Мурат стал привычно карабкаться по водосточной трубе. Он проделал это легко и быстро, я бы сказал – беспечно, еще не зная, что преодолевает ровно четыре метра, отделяющих его футбольное детство от всей дальнейшей жизни. Да, это был роковой для него и для нашей семьи подъем.
Мяч лежал у перил рядом с тазом дозревающей айвы, но дверь в комнату была приоткрыта, и потому, прежде чем прихватить вместе с мячом сочную айву, Мурат заглянул в квартиру.
И обмер.
На диване лежала абсолютно голая Сонька. Она лежала на животе, перед ней были ноты, а простыня, которой Сонька укрывалась, сползла с ее спины на пол, потому что, видите ли, и под простыней Соньке было жарко. Упершись локтями в валик дивана, Сонька разучивала Второй концерт Рахманинова. Мурат не знал, что она разучивает Рахманинова, хотя если бы и знал – ну что бы это изменило? Он увидел мою сестру Соньку, он увидел ее сразу всю – так измученный жарой солдат разом выпивает ковш колодезной воды. Эта мерзавка лежала на диване голая, выставив свою белую девятнадцатилетнюю попку и распустив по плечам тяжелые роскошные волосы. Хмуря тонкие брови, сосредоточенно и серьезно, с вдохновением школьницы она распевала Второй концерт Рахманинова, а такт отбивала голой ножкой по валику дивана.
Только нетерпеливый окрик футболистов вернул Мурата к действительности. Он испуганно сбросил мяч, а потом почти кубарем скатился по водосточной трубе вниз, и лицо у него было в этот момент растерянное и безрассудное, как у дебила Мустафы, и, спрыгивая на тротуар, он чуть не сшиб проходившего под балконом мясника и верзилу Арсена. Арсен еще в шестнадцать лет весил 120 килограммов, поэтому он никогда не играл в футбол и с детства ненавидел футболистов. Когда Мурат сверзился рядом с ним на тротуар, зацепив локтем его огромную кепку-восьмиклинку, Арсен тут же схватил его за горло.
– Э! Пусти, да! – нетерпеливо и пренебрежительно сказал ему Мурат, словно Арсен хотел почесать ему за ухом, а не сломать шейные позвонки. И с силой стряхнул арсеновскую руку со своего горла и тут же крикнул своему школьному приятелю, гонявшему с ним в футбол: – Серый, давай мой портфель!
Сашка Серый, сын водопроводчика, жил на втором этаже в доме напротив нас, у него было четыре брата и пять сестер, и младшая половина этого семейства вечно торчала в зарешеченных окнах своей квартиры, упираясь в эти решетки надутыми пузиками с еще неутопленными пупками. Эти пупки красовались на их голых животах, как хвостики на арбузах.
– Ара, еще не доиграли, – сказал Мурату Сашка Серый, сказал с типичным южным акцентом и с этим кавказским междометием «ара», хотя в крови у Серого не было ни капли восточной крови.
– Давай, давай, – сказал ему Мурат, а мясник Арсен, совершенно потрясенный столь небрежным к его 160-килограммовой фигуре отношением, пожал плечами и пошел прочь.
Серый крикнул наверх этим арбузным хвостикам, чтобы они сбросили портфель Мурата, и малыши с удовольствием выпихнули в дыру под решеткой тощий черный портфель с оторванной ручкой.
– Ара, что случилось? – обеспокоенно спросил Серый у Мурата.
– Ничего, домой надо, – сказал Мурат и ушел, а за его спиной тут же раздался крик:
– Я за него! Я за него!
Это выскочил из подворотни Гога-рыжий, сын стоматолога Махарадзе. Он на ходу доедал бутерброд.
Игра возобновилась, но Мурат уже не видел и не слышал ее.
Он степенно дошел до угла улицы, свернул на Красноармейскую и… опрометью бросился домой. Бежать ему было недалеко, он жил в трех кварталах от нас, на тихой улице имени русско-украинского писателя Гоголя, где почему-то никогда не играли в футбол.
Дома он швырнул портфель в угол и суматошно переворошил нижний ящик кухонного шкафа. Там хранилось все – от старой обуви до треснувшего питьевого рога. Среди этого старья Мурат нашел наконец обшарпанный полевой бинокль и умчался на улицу, ошарашив свою мать и старшую сестру Бибигюль тем, что впервые отказался от обеда. Только на ходу схватил со стола полбатона чурека.
С этим полубатоном и биноклем он – уже не по тротуару, а по плоским крышам – вернулся к нашей улице и, задыхаясь от бега, шмякнулся на горячий кир. С крыши дома, где он разлегся (это был все тот же дом Серого), были видны окно и балконная дверь нашей квартиры.
Не обращая внимания на раскаленный кир, тут же прилипший к его локтям и рубахе, и держа в зубах полчурека, Мурат навел бинокль на балконную дверь нашей квартиры.
Диван был пуст.
Сонька сидела за столом, ела зеленый щавельный борщ – ей пора было идти в музучилище.
И – она была в халатике.
И – она по-прежнему что-то читала, но уже не пела при этом, а просто читала, может быть – историю музыки, поскольку на носу были выпускные экзамены.
Она ела щавельный борщ, забыв про хлеб.
Хлеб на крыше противоположного дома жевал Мурат.
Всухомятку.
А внизу играли в футбол. От мостовой до крыши, на которой лежал Мурат, было двенадцать метров, не больше. И в то же время – очень далеко. Как от детства до первой любви.
Сонька вышла из подъезда с черной папкой для нот и, опасливо обогнув орущих в футбольном азарте мальчишек, пошла в свое музучилище. Увесистая дерматиновая папка для нот с ручками-шнурами оттягивала Соньке руку.
Нужно ли говорить, что Мурат следовал за ней – сначала по крышам, а затем по улицам.
Свернув за угол, Сонька встретила маму – мама шла с базара, несла кошелку, полную зелени и баклажанов.
– Ты поела? – спросила мама у Сони.
Конечно, Сонька поела.
– А газ выключила?
– Ну, мама! – укоризненно сказала Сонька.
– А когда ты придешь?
– Вечером. Мы после занятий идем в филармонию.
– Знаю я эту филармонию! – сказала мама. – Опять будешь шландаться с этим грузином!
– Ну, мама! – сказала Сонька. – Он же в консерватории учится. Мы правда идем в филармонию. Из Вильнюса скрипач приехал, я же тебе говорила.
– Ой, смотри, Сонька! – сказала мама и пошла домой.
А Сонька пошла в училище, и за ней на расстоянии десяти метров, как привязанный, плелся Мурат.
А вечером, поздним вечером, когда нашу Бондарную улицу освещают лишь закопченные фонари и в окнах гаснет свет, а в подворотнях-растворах стихает сухой стук нард, Сонька возвращалась домой, и провожал ее «этот грузин» Картлос – красивый флейтист из очень интеллигентной семьи, студент первого курса консерватории.
Тихо отслоились от стены три фигуры и тихо преградили дорогу Картлосу и Соньке.
– Закурить есть? – спросил у Картлоса Гога Махарадзе, сын стоматолога.
– Я не курю, – сказал Картлос.
Серый повернулся к Мурату, спросил:
– Бить?
– Подожди, – сказал Мурат и попросил Картлоса: – Отойди на минуточку.
– Не хочу, – сказал Картлос.
– Ара, ну бить? – опять спросил у Мурата нетерпеливый Сашка Серый.
– Хулиганы! – сказала Сонька. – Серый, я твоему отцу скажу. Не трогайте его.
– А кто его трогает? – спросил Серый. – С ним поговорить хотят. Ара, ты мужчина или нет? – спросил он у Картлоса. – Ты можешь от нее отойти?
– Ну, могу, – сказал Картлос, хотя ему не хотелось.
– Не ходи! – сказала ему Сонька. – Серый, я буду кричать.
– Ара, не будем мы его бить, – сказал ей Гога, под руку отводя Картлоса в сторону. – Что мы – трое одного будем бить? Пальцем не тронем.
Вчетвером они отошли от Сони на пять шагов. Остановились.
– Ты с какой улицы? – спросил Мурат у Картлоса.
– С Самеда Вургуна, а что? – сказал Картлос.
– А зачем по нашей улице ходишь? – спросил Гога. – Я по твоей улице хожу?
– Ара, что с ним говорить? – сказал Серый и ударил Картлоса под дых.
И тут на них налетела Сонька.
– Бандиты! Зверюги! – Она лупила их по головам тяжелой дерматиновой папкой для нот, но они не обращали на нее внимания, а когда Гога замахнулся на нее, Мурат резко двинул его в бок. Гога выпучил глаза:
– За что, эй?
– Ее не трогай, – сказал Мурат. – Серый, пусть она идет домой.
Но тут Сонька с размаху шмякнула папкой ему по голове. Он посмотрел ей в глаза и сказал:
– Еще!
А Картлос вырвался наконец из кольца, отбежал в сторону. Серый и Гога погнались за ним.
А Сонька в истерике продолжала бить Мурата папкой по голове, он стоял, набычившись, и после каждого удара говорил:
– Еще.
Сонька устала и заплакала.
– Бандюги! – проговорила она сквозь слезы. – Все равно я буду с ним ходить…
– Не будешь, – сказал Мурат.
* * *И с этого дня он таскался за Сонькой повсюду.
Он ждал ее по вечерам при выходе из музучилища.
Из распахнутых окон музыкальных классов лились на улицу скрипка и фортепиано, виолончель и флейта, но особенно изводили Мурата скрипачи – они выжимали из своих инструментов не музыку, а кизиловый сок.
Мурат слонялся по тротуару и слушал, слушал и постепенно привыкал к этим непонятным звукам.
А потом выходила Сонька. Она выходила с подругами и шла с ними по улицам, демонстративно не обращая внимания на следовавшего позади Мурата. А он шел за ней на расстоянии десяти шагов. Десять шагов – не ближе, не дальше.
А Сонька шла в библиотеку или в филармонию – иногда даже с Картлосом, – и Мурат опять ждал ее и тащился следом, провожая до угла Бондарной улицы, откуда ему было видно, что она наконец пошла домой.
И это привело все-таки к драке, потому что однажды Сонька пошла с Картлосом на бульвар, и там Картлос встретил своих ребят с улицы Самеда Вургуна, и они избили Мурата.
Но на следующий день – с синяками и разбитой бровью – он опять ждал Соньку при выходе из музучилища.
А лил, между прочим, дождь – хлесткий майский дождь.
Мурат стоял напротив училища, прячась от ливня под козырьком какого-то подъезда, и кто-то из Сонькиных подруг, выглянув в окно, увидел его съежившуюся фигуру и показал Соньке.
Сонька разозлилась. Она выскочила из класса, спустилась по лестнице к парадному подъезду училища и, открыв двери, крикнула Мурату:
– Иди сюда!
Он отрицательно покачал головой.
– Иди сюда! – приказала Сонька.
Он нехотя с независимым видом пересек под дождем улицу.
Сонька схватила его за мокрую руку, втащила в подъезд своего училища. В маленьком вестибюле было тепло, сухо, за барьером сидела дежурная.
Прижав Мурата к стене, Сонька сказала ему почти с ненавистью:
– Ну чего ты хочешь? Чего?
– Ничего… – ответил он.
– А зачем торчишь здесь? Зачем?
Он пожал плечами.
– Это смешно! – сказала она. – Смешно, понимаешь? Между нами ничего не может быть, ничего! Ты маленький, понимаешь, ма-лень-кий!
– Я вырасту.
– Дурак!
– Дворкина, – подошел к Соньке секретарь комитета комсомола училища, – ты распространила билеты?
– Восемь штук осталось, – сказала Сонька.
– А о чем думаешь?
– А никто не берет, – сказала Сонька. – Стипендия только послезавтра.
– Меня не касается, – сказал секретарь и спросил у Мурата: – Ты из нашего училища?
– Нет, – ответила вместо Мурата Сонька. – Он школьник.
– Школьник? Очень хорошо, – сказал секретарь. – Отдай ему билеты, пусть распространит в своей школе. В порядке шефской помощи. В какой ты школе? – спросил он у Мурата.
– В 71-й… – сказал Мурат.
– Это на улице Кецховели?
Мурат кивнул.
– Так это же наш район, – сказал секретарь Соньке. – Отдай ему билеты, запиши фамилию, а я позвоню их секретарю. И запомни, Дворкина, нам нельзя замыкаться в своем кругу. Раз ты культмассовый сектор – нужно нести культуру в народ. Ясно?
– Ясно, – сказала Сонька.
– Значит, договорились. Я записываю в плане работы: совместный поход в филармонию со школьниками 71-й школы. В порядке шефской помощи.
И ушел.
Сонька посмотрела на Мурата, сказала сухо:
– Идем. Я дам тебе билеты.
Вдвоем они стали подниматься по лестнице.
– А что там будет? – спросил Мурат.
– Органный вечер. Ты любишь орган?
Он пожал плечами.
Они шли мимо классов, из каждой двери неслась музыка – скрипка, фортепиано, хор, опять скрипка, флейта…
Мурат шел, озираясь по сторонам, за ним на ковровой дорожке оставались следы от мокрых туфель.
Сонька, спеша, чтобы не попадаться на глаза педагогам и подругам, говорила на ходу:
– Пошли, пошли. Сейчас звонок будет.
Она завела его в комнату комитета комсомола. Здесь две девушки-студентки разрисовывали очередной номер стенгазеты, третья двумя пальцами клевала клавиши пишмашинки, отстукивая для газеты статьи, четвертая по телефону отчитывалась за комсомольские взносы.
Все они подняли головы, с любопытством воззрились на мокрого Сонькиного спутника.
– Это наш комитет, – сказала Мурату про этих девушек Сонька, подошла к сейфу, открыла его, достала билеты и толстую общую тетрадь. Села за стол, стала записывать. – Школа номер 71. Как твоя фамилия?
– Расулов Мурат.
– Ответственный Расулов, – записала Сонька. – В каком классе?
– В девятом, – хмуро сообщил Мурат.
Студентки потеряли к ним интерес, стали заниматься своими делами.
А Сонька насмешливо скривила губы:
– Девятый класс, а уже… Распишись. Концерт сегодня в семь часов, а деньги можешь принести завтра. Четыре рубля. Успеешь распространить билеты?
Он расписывался молча, потом спросил:
– А ты в каком ряду сидишь?
Девчонки опять заинтересованно подняли головы.
– Я этого органиста в прошлом году слушала, – сказала Сонька, собираясь встать.
– Тогда не надо. – Мурат положил билеты на стол.
– Что не надо? – удивилась Сонька.
– Не надо билеты.
Сонька насмешливо усмехнулась. Работая, так сказать, «на публику», спросила с улыбкой:
– А если я пойду?
Он взял со стола билеты, оторвал один, положил перед Сонькой, спросил хмуро:
– Точно пойдешь?
– Ну, если ты меня приглашаешь… – улыбнулась Сонька, взяв билет.
Девчонки прыснули.
– Скажи «клянусь матерью», что придешь, – сказал он.
– Дурак! – разозлилась Сонька. – Ты где это говоришь? Это же комитет комсомола!
– Скажи «клянусь матерью», – набычившись, повторил Мурат.
– Ну хорошо, приду, честное комсомольское, – сказала Сонька.
Последние четыре часа до начала концерта прошли как в бреду. Во-первых, сразу из училища Мурат помчался к Гоге Махарадзе. У Гоги, сына стоматолога, было три костюма, и один из них – если перешить пуговицы на пиджаке и заузить брюки в поясе – пришелся Мурату впору. С Гогиным костюмом Мурат помчался домой, велел старшей сестре Бибигюль перешить эти пуговицы и наскоро заузить эти брюки. Пара чистых отцовских рубах были Мурату явно велики, а своей чистой не было. Поэтому он тут же принялся стирать под краном свою единственную белую рубашку. Но холодной водой рубашка не отстирывалась, и мать забрала ее у Мурата, стала стирать по-настоящему – то есть сначала разогрела воду. Поглядывая на часы, Мурат метался по квартире, когда сестра сказала:
– Ты лучше пойди постригись…
Он помчался в парикмахерскую и возвратился домой с такой набриолиненной головой, словно ее покрыли черным лаком.
На их тихой улице имени русско-украинского писателя Гоголя кирщики варили кир – они переехали сюда с нашей Бондарной улицы. Густой дым поднимался над их котлами и плыл по улице Гоголя, растекаясь над крышами и оседая во дворах и квартирах.
Увидев этот переселившийся на их улицу котел, Мурат сорвался с места и бегом помчался домой. А вбежав во двор своего дома, в ужасе остановился – так и есть, мать повесила свежевыстиранную белую сорочку во дворе, но теперь это была уже не белая сорочка, а в черную крапинку. Копоть садилась на нее прямо на глазах…
В овальном зале вестибюля филармонии «светская» публика чинно – парами и по трое – ходила по кругу и вела тихие и якобы интеллигентные разговоры. Женщины, изображая из себя чуть ли не великосветских княгинь, не забывали при этом поглядывать в огромные зеркала на стенах и ревниво осматривали туалеты друг на друге.
Сонька в одиночестве стояла у стены и удивленно смотрела на часы – до начала концерта оставалось несколько минут, но ни Мурата, ни вообще ребят школьного возраста в вестибюле не было. Такое поведение «кавалера» задело бы любое самолюбие, а уж Сонькино…
В доме на улице Гоголя Мурат натянул вторично выстиранную рубашку – от нее еще шел пар, поскольку мать только-только прошлась по ней горячим утюгом. На ходу набросив пиджак, Мурат сказал отцу:
– Отец, рубль дай, рубль…
– Ара, мать тебе дала четыре рубля, – удивленно сказал отец. – Зачем тебе еще?
– Галстук куплю по дороге, ну быстро…
– А возьми у соседа, да! Акрам, дай ему твой галстук! – попросил он через окно у соседа, который пил чай на своей веранде. – Один раз идет в филармонию, прямо весь дом перевернул, честное слово. Гога тоже идет?
– Идет, идет, – нетерпеливо сказал Мурат. – Культпоход у нас.
– Чтобы четыре рубля один билет стоил! – пожаловался отец соседу Акраму, когда тот подал в окно свой галстук. – Эти учителя, наверно, думают – я деньги на машинке печатаю…
…Наконец Мурат выскочил на улицу. В костюме, в белой сорочке, с туго повязанным галстуком и с шевелюрой, набриолиненной до черного сияния. Было без шести минут семь. В кармане у Мурата было четыре рубля, но он не стал ловить такси. Он побежал пешком. От его дома до филармонии было около двух километров – это не так уж много для хорошего спринтера, но, во-первых, Мурат не был спринтером, а во-вторых, на беговой дорожке, то есть на улицах, было полным-полно народу, высыпавшего под вечер подышать прохладой после жаркого дня.
Мурат бежал в филармонию – не бежал, а летел. На ходу огибая прохожих, ввинчивался в компании гуляющих, выныривал чуть ли не из-под колес машин, сворачивал в проходные дворы. Бриолин уже тек по его лицу, пиджак и белая сорочка взмокли.
* * *В филармонии открыли двери в зал, и публика, прекратив кружение по вестибюлю, устремилась на свои места.
Сонька, поглядев на опустевший вестибюль, пожала плечами и вошла в зал.
Она отыскала восьмой ряд и уселась на свое место. По обе стороны от нее было семь свободных мест – справа четыре, а слева три. Это в почти переполненном зале! Вокруг усаживались на свои места зрители, а эти семь мест были свободны, и никто сюда не садился. Соньке было неловко сидеть тут в одиночестве, она нервно вертелась в кресле. Кто-то из студенток училища, сидевших в заднем ряду, подошел к ней, спросил:
– У тебя тут свободно?
– Занято, – нервно сказала Сонька. – Наверно, занято. Не знаю…
Студентка ушла назад, явно обидевшись, потому что весь зал уже уселся, а на сцену выходила ведущая. По деревянной сцене процокали ее каблучки, и в торжественной тишине она объявила звонко, отделяя каждое слово:
– Начинаем концерт органной музыки!..
У входа в филармонию взмокший Мурат выхватил из кармана семь билетов, оторвал один, протянул билетерше, а остальные сунул обратно в карман.
Билетерша посмотрела на него с удивлением – у него был явно зачумленный вид, глаза горели, по лицу и рубахе расползся бриолин. Но билет есть – билетерша пустила его.
Он влетел в зал, когда органист уже раскланивался с аплодирующей публикой и ведущая объявляла первый номер:
– Бах! Прелюдии и фуги!
Мурат пробежал по пустому проходу, нашел восьмой ряд и шмякнулся в кресло рядом с Сонькой.
Сонька посмотрела на него уничижительным взглядом и демонстративно отвернулась.
Он достал из кармана четыре рубля, положил ей на сумочку, которую она держала на коленях.
– Это за билеты, – сказал он.
– А где же?.. – Соня кивнула на пустые места. Он пожал плечами. Она посмотрела на него, усмехнулась, достала из сумочки полтинник и положила ему на колено.
– Это за мой билет, – сказала она и опять отвернулась к сцене, где органист уже занимал место за клавиатурой органа.
Мурат покосился на Соньку – она сидела выпрямив спину, глядя строго перед собой, и во всем ее облике была отчужденность и неприступность.
Ей казалось, что весь зал смотрит сейчас на них, на эту странную пару в восьмом ряду, сидящую отдельно ото всех и окруженную пустотой свободных кресел.
И от этого Сонька злилась и краснела.
– Туда смотри, – сказала она Мурату сквозь зубы, не повернув головы и только взглядом показывая на сцену.
И тут зазвучал орган. Мурат удивленно оглянулся – величественный рокот органа он слышал впервые в жизни. Маленький органист Гарри Гродберг потерялся на фоне своего гигантского инструмента, и казалось – сам Бах низвергает свои прелюдии и фуги на эту обособленную пару в восьмом ряду.