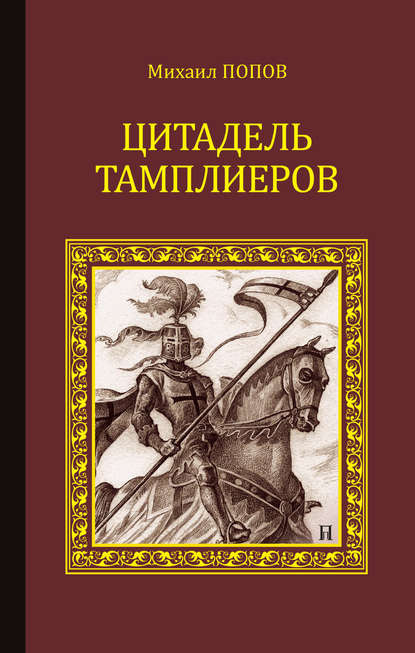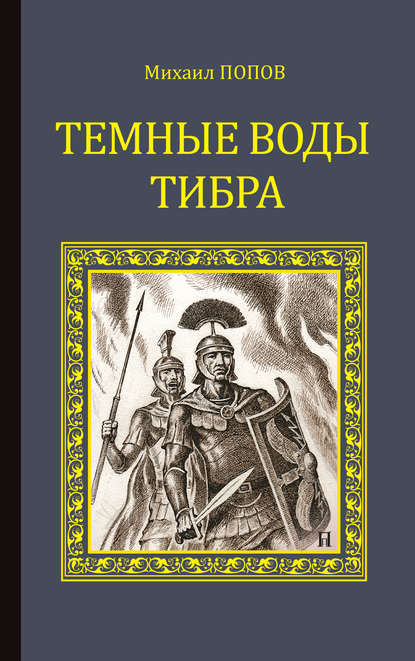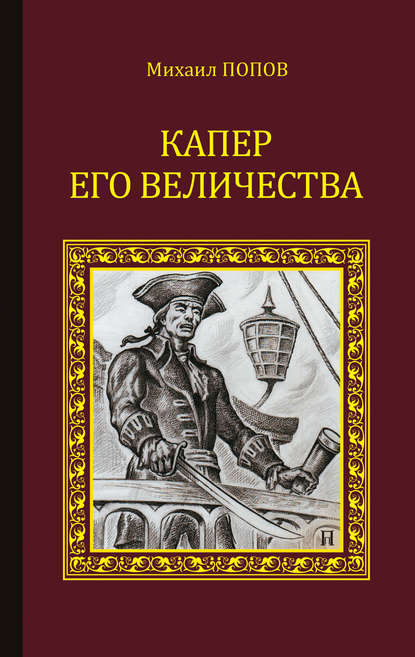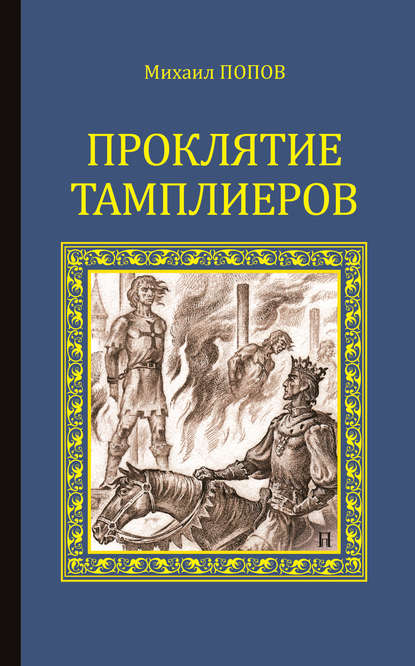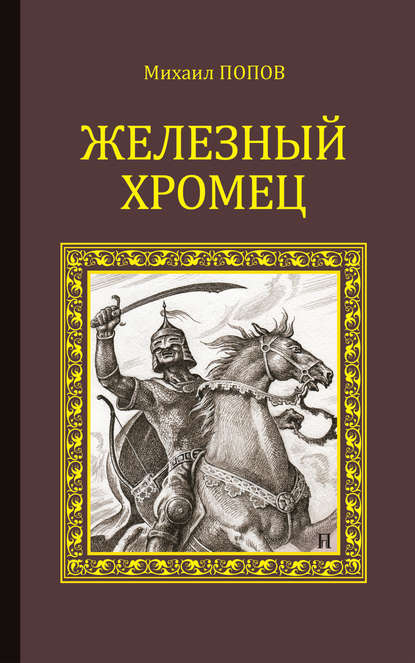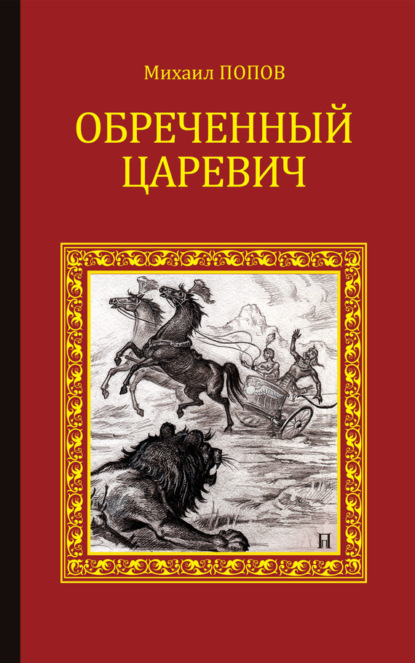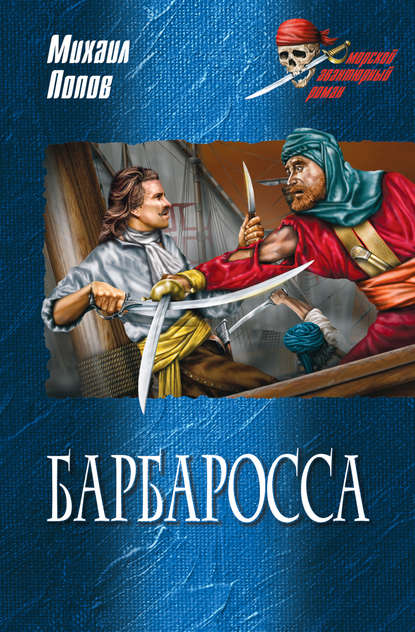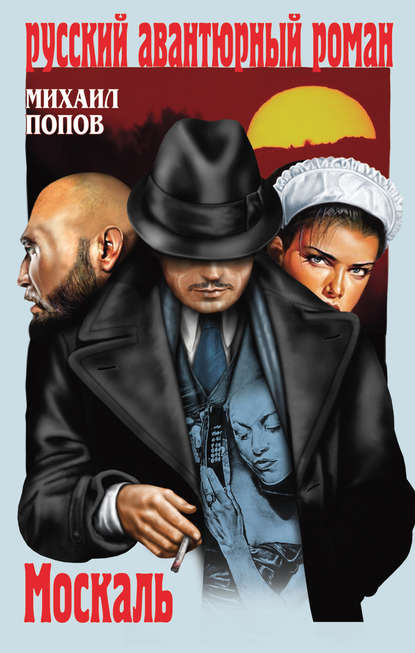Полная версия
На кресах всходних
Лейтенант вдруг, не глядя ни на одного из своих предполагаемых собутыльников, сказал:
– Ты бы ее все равно потом убил.
– Это была моя баба, – осклабился Черпаков.
К ним, улыбаясь, приближалась официантка, кажется Марыся. Юмор положения заключался в том, что одно время Черпаков с Марысей… впрочем, какой там юмор.
Лейтенант выдвинулся из-за стола.
– Ты куда? – встал и Черпаков.
Марыся остановилась, сбитая с толку, прикрываясь подносом. Базилюк быстро закивал ей – неси, мол, неси сама знаешь что.
– Руки помыть, – усмехнулся лейтенант и пошел в сторону стойки пана Желудка.
Черпаков сел. Марыся ему улыбнулась, а когда поймала его взгляд, пожалела об этом.
– Иди, иди, – зашептал Базилюк, отмахиваясь от нее своими огромными, грязными пальцами.
Удивленно-обиженно, но безропотно девушка отошла от стола.
Базилюк проследил за лейтенантом, он действительно, обогнув позицию пана Желудка, зашел за ширму в коридор, по которому можно было попасть только в одно место – нужник, где имелось несколько широченных, как для мамонтов, сортирных колец и кран, лупивший в чугунную раковину громогласной ледяной струей.
– Интеллигенция, – скривил рот Базилюк и покосился на сержанта, понимает ли тот, что он, Базилюк, всецело на его стороне. Покосился и обмер: как раз в этот самый момент сержант сделал под столом характернейшее военное движение, взвел курок. Самого пистолета не было видно, но Базилюку показалось, что теперь все население ресторации оповещено о том, что готовится…
– Пришью гада! – Странным образом злоба Черпакова нарастала от каждого движения лейтенанта, и каждого слова, и с каждой минутой.
– Послухай, ты бы сам ее потом зарезал, – попытался сбить Черпакова с этого настроя Базилюк, хотя понимал, что говорил не то и уж тем более не стоит повторять версию лейтенанта.
– Это была моя баба, – пригвоздил его взглядом сержант.
«Господи, помилуй, хотя и знаю, что не помилуешь, есть за что не помиловать…» – не успел додумать ефрейтор Базилюк свою ненужную в данный момент мысль, как хлопнула входная дверь и внутрь влетели два солдата с ППШ, вертя головами и с криком: «Всем лежать!»
Глава вторая
Осень 1908 года. Тройной хутор у местечка Дворец, что в Гродненской губернии, неподалеку от Волковыска. Два студента в гостях у настоятеля местной церкви.
– Хотите знать, куда вы попали?
Столичные гости смотрели на отца Иону с настороженностью. Выпускник инженерной академии Арсений Скиндер и третьекурсник юридического факультета Петр Ивашов прибыли для поселения под надзор полиции в деревню Порхневичи, но холодный октябрьский дождь заставил их искать убежища и ночлега, не доезжая до места назначения. Их возчик, неразговорчивый мужик Микита, нанятый вместе с телегой еще в Кореличах, заявил, что конь захромал. Новоссыльные были людьми вполне городскими, но даже им было очевидно, что коняга ничего не хромает. Но спорить с кем-либо они событиями последних недель были отучены, к тому же возникала возможность свернуть к какому-нибудь жилью, а не безысходно сносить отвратительную погоду, прижавшись друг к другу под мокрой дерюгой, хотя никакой особенной дружбы меж ними не было и прежде, и во время пути не образовалось.
Молодой священник обрадовался городским собеседникам, его ни в малейшей степени не смущал их нынешний статус. Свежие люди из мест, где он сам еще пару лет назад… в общем, крупной, молчаливой бабой был накрыт стол, в печку подброшены дровишки, и, хотя она и подпускала чуть-чуть дыма в помещение, создалась атмосфера, в которой можно было согреться и расслабиться.
Батюшка прежде всего обращал на себя внимание отъявленной разговорчивостью, охотно тек мыслью в любом направлении, только подтолкни. Могло показаться, что он отчасти пьяноват, что ли, и ряса на нем не так чтобы кристально чиста, только до этого неожиданным гостям не было никакого дела. Тем более что отец Иона между другими быстро предлагаемыми сведениями сообщил: ныне-де он без матушки, отчего и весь порядок его быта несколько скособочен в холостяцкую сторону.
Молитву он прочитал серьезно и даже с чувством, но, сев на стул, как бы рассупонился.
– Вы, еще не вовсе подсохшие мои, теперь оказались волею предержащих сил в мешке. – Иона захихикал, отчего его длинная, но редкая бородка затряслась, придавая хозяину непреднамеренное с его стороны сходство с козлом. Было батюшке вряд ли больше двадцати пяти лет, и ростом он был выше рослого инженера Скиндера на полвершка, но ребячливая манера общения заставляла видеть в нем чуть ли не расшалившегося подростка.
– И не просто в мешке, – в мешке, который, отцы мои, еще и в навозе.
Ивашов и Скиндер переглянулись – не послышалось ли. Они ждали дерзостей и неаккуратности в быту от мужицкого элемента, но чтобы духовное лицо, да за обеденным столом…
– Не поняли? Срисую вам.
Иона стал шустро двигать предметы, расположенные на столе, освобождая середку. Оглянулся в поисках чего-то – тело было гибким и ловким в движениях.
– Вот пояс. – Пояс лег вытянутой петлей, оставив один выход из образованного «мешка». – Мы вот тут. – Отец Иона расставил несколько рюмок внутри петли. – Це Тройной, моя церква, а вот Гуриновичи, столица нашего темного царства.
Иона вздернулся и чуть в сторонке от рюмок поместил солонку с грязноватой серебряной крышкой.
– Это Дворец. Графское имение. Теперь вот правильно. В Гуриновичах вся цивилизация; власть – становой кушает чай в трактире… Тут и школа начальная, но больше без учителя… Да, вы прибыли с этой стороны – Сынковичи, Новосады, Дворец. В Сынковичах пустыри широченные, там на краю Далибукской Пущи аэроплан садился. Года два назад. Дальше тракт, Кореличи, чугунка.
Хозяин поднял ребристую на ножке рюмку с мутноватой жидкостью. Поймав тоскливый взгляд Ивашова, упершийся в рюмку, а более в цвет напитка в ней, сразу объяснил:
– Не «нюи». Здешнего варенья благодать, после расскажу.
Выпили, отчасти с удовольствием, отчасти насильственно над организмом, выпуская после из угла рта сивушную струю.
– Я почему вещаю? Вы хоть оттуда и прибыли, с железки, по такой погоде навряд что-то разглядели. Если судить по моей карте, вам вот в эту сторону. В него, в мешок. На самое дно.
Он бросил внутрь «мешка» несколько хлебных корок и объявил:
– Порхневичи. Во всех смыслах Порхневичи.
Гости не стали уточнять, сколько их, подразумевающихся смыслов. Оказалось – два, и деревня носила то название, и главная в ней семья. Так что нельзя было сказать, что от чего происходит.
– Народец там… – Батюшка задумался и горько выдохнул: – Местный. Сам-то Ромуальд Северинович, как бы почти что барин ихний, человек ужасной неделикатности и силы. Ходит с волком на плечах, а как глянет – кветка вянет. Кветка – цветок по-здешнему.
Мягкими, но настойчивыми жестами гости принуждены были выпить еще: хозяин был внезапно взят каким-то сильным воспоминанием, и понадобилось ему срочно смыть его. После непосредственно глотания самогона наступила длительная пауза, гости успели несколько раз переглянуться. Обоим было по-прежнему весьма неловко, не хотелось верить, что и духовное лицо поглощается настолько без остатка мраком захолустной жизни. То, против чего они в общем-то протестовали в своих аудиторных митингах, демонстрировало им свою неодолимую власть.
Дождь припустил гуще.
Отец Иона открыл один глаз:
– Вот вы о народе распомыслили. А что он, народ ваш! И наш так же ж.
Неясность вопроса очень затрудняла ответ, да еще и при полном нежелании молодых разговаривать.
Батюшка медленно отвалился на спинку стула, сколоченного грубой рукой деревенского плотника.
– Белорусский мужик таков, что подчиняется любому, кого числит хоть маленько выше себя, никогда не перечит, но очень часто замечаешь, что в конце концов все сделалось так, как надо ему, а не тому, кто командует. Безропотность и уклончивость – вот его два признака. Хочашь, не хочашь, але мусишь, говорит он…
Опять явилась массивная подавальщица. «Порхневичи» были сметены краем ее сердитого фартука, в центр стола встала большая черная сковорода с жареным салом, рядом чугунок с вареной бульбой, миска с жаренными маслятами в сметане. Скиндер с Ивашовым только было наладились прослушать краткую лекцию про особенности белорусского характера, – а именно белорусами была, судя по всему, населена эта мокрая бесконечная ночь за окном, – как батюшка прервал сам себя с таким видом, что рано еще выносить вердикты, кое-какие нюансы недодуманы.
Ивашов осторожно протянул белый от удивления палец в сторону вставшего рядом с маслятами блюда.
– Что это? – спросил Скиндер, и получилось, что они выступили с Ивашовым в паре.
– Из немцев? – вопросительно улыбнулся отец Иона, расчесывая длинными пальцами пегие волосы бороды. Он в самом начале знакомства глянул в их бумаги, выступив тоже как вид здешней власти, и теперь показывал, что чернила в его сознании не смываются даже самогоном. – А это ковбух. Местная забава зажиточных мужиков. Как те же Порхневичи, что правят в Порхневичах. Так вот, берут желудок, бараний, а может, и свинячий, выскребают, а туда всякого резаного мяса-сала с перцем и другой специей, плотно-плотно, завязывают и на чердак, на веревке на стропилу, чтобы на ветерке вялилось, чердачные окошки открывают. Что, мочой отдает? Это, господин студент, ничего, мы вот сейчас нальем…
Тетка внесла штофную емкость с гербовым орлом на груди, батюшка принял емкость и объявил:
– Для гостей – хлебный.
Надо было понимать, что он вдруг решил повысить статус застолья. Встал, с переменившимся, резко посерьезневшим лицом, снова прочитал молитву и перекрестил трапезу. Студенты покорно поучаствовали в повторном обряде.
Сел и сделался как будто более серьезен – мол, пора и честь знать. Быстрым деловым тоном сообщил студентам полезные сведения:
– Кухни здесь не ищите, нет. Грубо все, белорус готовит так, как будто ему на себя наплевать. Все равно съестся. Сейчас драники сделают. Всё на сале. Ну, это если есть сало. – Отец Иона хмыкнул. – А про нравы вот еще что скажу. Мне, вестимо, не по сану, однако по возрасту – девки, допустим…
Инженер заинтересованно замер, юрист все боролся со страшным действием самогона, кипевшего в пищеводе и вышибавшего слезу.
– Здешняя девка такая: берешь за руку и веди, куда тебе надо, прости Господи. Но, главное, руку не отпускай, почешешься, обратно – хвать, а там воздух. Улизнуть – их главная манера. Но это не про польские семейства, там гонор, хотя может и штанов не быть. Арендуют у того же магната, что и обычный мужик, но грудь выпячивают. У них своя парафия, что они говорят на исповеди, мне неведомо, но поведение весьма иное. Ксендз Бартошевич меня за человека не считает, весь наглаженный и в одеколоне… Только я знаю методы опускать грешников на грешную землю…
Не дав себе уплыть в гавань личных волнений, отец Иона вернулся к ориентализму:
– Вот я вам такой характерный пример, не мое наблюдение, однако верное. Горит гумно. Представили? Горит гумно! У такого вот Сидоровича или Лукашевича, а хозяин не бегает с ведром к колодцу, не вытаскивает мешки, а там весь запас его полыхает, стоит, извиняюсь, соплю жует. Спрашивают у него, что ж ты, мол, так, есть чего теперь будешь? А он отвечает: мыши зато ляскнули. Ну, лопнули. Он сквозь шум пожара услыхал мышиный писк и этим впечатлился и обрадован. Это для него важнее. Варвар бывает особенно сражен деталью. Как американский дикарь за стеклышки продаст вам остров.
Выпили еще по стопке. И вот тут юрист Ивашов совсем поплыл, самогон из штофа был, видимо, тройной перегонки и нарушал менделеевские правила самым свирепым образом. Инженер попробовал вернуть разговор на женскую тему. Отец Иона охотно подхватил:
– А в семье всем баба вертит, да. Как это получается, лень додумываться, но так. Любви, как пишут нынешние господа сочинители на Неве, тут не встречается, не замечал чувств утонченных, за ненадобностью в хозяйстве. Это не в упрек, лютый труд и серая погода. То зальет, то заметет. Забитость, даже язык как бы и не язык, как бы просто уклончивость от великорусского в какую-то свою дебрь.
– Забитость? – кивнул юрист и икнул, самогон все еще не был побежден им полностью. – Покорность.
Отец Иона бросил в рот еще несколько колечек крупно нарезанной цыбули и вдруг выразительно и с каким-то разочарованием поднял брови:
– Да, он забит, мужик, забит, даже сам про себя если и скажет, то словно чтоб себя же и устыдить, над собой уничижительный вердикт произвести. Но и резонер, только не в развитие конкретной деловой мысли, а в определение природного порядка. Как будто шел человек, увидел дерево – и как будто в первый раз увидел. У Чехова есть персонаж, говорит все время очевидное: лошади кушают овес и сено, после зимы всегда бывает весна…
– «Учитель словесности»! – выдохнул вместе с сивухой юрист.
Скиндер, Чехова не читавший и вообще к литературе равнодушный, покосился на товарища почему-то неприязненно.
Батюшка продолжал свою мысль:
– …а я откажусь от чеховского примера. Там просто туповатый практик, а белорус, он, как я уж замечал, философ. Он может сказать вам: воздух, это вам не вода, ель – это вам не ветла. И ему не важно, чем так ель отличается от другого дерева, сам факт различия гипнотизирует его ум.
Выпили еще. И тут отец Иона сообщил свою окончательную мысль:
– А вообще, говоря откровенно, его вообще нет.
– Кого? – поинтересовался совершенно освоившийся инженер.
– Белоруса. Имеется в наличии один сплошной казус.
Ивашов только скромно хлюпнул опущенным носом.
Батюшка медленно тыкал хлебной коркой в солонку.
– Рассудите хотя бы лишь название. Зовут здешнего мужика бело-рус, а земля – все, что на восток от Гродна, и эта самая Далибукская Пуща, в середине которой мы под дождем пьем народную водку, у ученых мужей называется Черная Русь. Это как? Кривичи-дреговичи жили на Черной Руси и сделались вдруг бело-русы?..
Скиндер, больше продвинутый по технической части и поднятой темой ему заинтересоваться было невмочь, стал ждать момента, когда мелькнет в медлительной, но неуклонной речи батюшки осколок более лакомой темы.
– Я сам все думаю-задумываюсь: что это за земля такая, чья она по правде, кого на свет произвела, кем подлинно содержится? Хотя в хозяева многие метили. Вы хотя бы приглядитесь к нашему Дворцу.
Скиндер послушно повертел головой, словно названное батюшкой должно было по одному его слову нарисоваться в воздухе.
– Это такое имение, я же говорил, – снизошел отец Иона, вздыхая в сторону немецкого гостя. Юрист уже полностью спал, но при этом делал вид, что пребывает в полном порядке. – Когда-то, а именно не когда-то, а до последнего польского бунта, проживали там паны Суханеки. Православные, навроде Огинских, но паны и поляки.
Выражение лица инженера менялось, он старался понять сообщаемое, начал почему-то считать это важным для себя. Отец Иона не глядел в его сторону, а все вел спорадическую лекцию, абсолютно уверенный в ее пользе для тех, кто еще в состоянии слушать.
– Но Суханеки примкнули. По глупости, надо думать, да и по гордости своей. Задумали здесь, на «кресах всходних», обрести независимую родину для своего польского общества. Ну и является Муравьев.
– Вешатель? – вдруг как будто усилием воли вынырнув из тины опьянения, прохрипел Ивашов. И снова ушел на сонную глубину.
– Ка-какое… – поморщился рассказчик. – Ну, было чуть. Мужички местные косы к оглоблям привязали и в строй панской армии. А как разобрались, что «вешатель» не такой уж и вешатель, чтобы очень, пошли по домам. Панов за бунт только и наказали. И по сенатской люстрации, – отец Иона с неожиданно официальной точностью выговорил последние слова, – погнали панов Суханеков с кресов туда, где она и есть, их Польша. И подполковнику, отличившемуся, отдали Дворец во владение. Он его тут же проиграл в карты, а потом пропил, и что мы имеем….
Иона посмотрел на гостей. Сон одолел и инженера тоже, и теперь священник одиноко возвышался над лежащими ничком телами с простертой рукой, в пальцах которой ребристая рюмка играла мутными бликами колеблемой водки, как будто это какая-то капля терпеливого характера белоруса.
– Завтра, – сказал хозяин, – завтра поедем во Дворец.
Глава третья
Так, осенью 1908-го в Порхневичах появилась интересная парочка: два сосланных в лесную болотистую глушь петербургских студента. За какие такие дела – сельчане не разбирались, смотрели на господ в потертых форменных тужурках чуть иронически, но и с опаской. Для селянина человек в мундире, даже под знаком недоверия к нему верховной власти, все равно представитель господского сословия. Поселились они в большой хате у моста. Когда-то там был шинок и дом шинкаря. Не процветающий шинок – клиентура ввиду тупикового состояния места была небогатой, – а после и вообще захиревший. Дом был разделен на две части, в задней, что имела особое крыльцо и две большие довольно комнаты, и была «гостиница».
Вёска Порхневичи никакой постоянной стоянкой имперской власти оснащена не была, лежала, в соответствии со словами гостеприимного батюшки Ионы, в стороне от всех ниток всяческих путей, как бы в выемке огромного, охватывающего, густого лесного небытия; даже от соседних Гуриновичей ее отделяла река с непреднамеренно загадочным названием – Чара. Она осторожно выбиралась из-под сени Далибукской Пущи, проскальзывала под настилом неширокого моста и опять уходила в ноги деревьям, там, уже по пути, в глубине оснащаясь мельницами, принадлежащими пану Порхневичу, и полуразвалившимися пристанями, неизвестно кому принадлежащими.
Жизнь стояла там стабильная, не размываемая ни в малой степени внешними влияниями и модами. Даже слухи сюда доходили или уже опровергнутые жизнью, или состоявшиеся как факт. Хорошее место для ссылки. Сбившимся с пути молодым умникам полезно окунуться на время в настой первобытной жизни.
В Порхневичах, как и во многих белорусских деревнях, была такая особенность: видимо, оттого, что располагались они рядом с подавляюще мощным лесным массивом, на их непосредственной территории было крайне мало деревьев. Редкие липы на улицах, редкие яблони на картофельных делянках, что тянулись опять-таки в сторону леса; во дворах кусты поречки по внутренней части заборов. Или вот сирень по неизвестно чьему капризу. Еще где-нибудь – такой же случайный жасмин под окошком. Можно подумать, что люди, выпроставшись из-под воли вековечного леса, хотят немного пожить на открытой местности.
Дверь комнаты, в которой стояли на пыльном полу две железные кровати и много перепачканных дорожной грязью саквояжей, была открыта в бесшумный дождь. Скиндер и Ивашов сидели рядом и, несмотря на полное совпадение их житейских ситуаций, выглядели очень разно. Юрист ужимался весь внутрь, затягиваясь последней петербургской папиросой, инженер уже мысленно что-то конструировал.
Ни тот ни другой не заметили, как и откуда у сирени, вяло сносившей морошение невидимых капель, появился человек. Он длинно снял картуз и улыбнулся, кажется, желая продемонстрировать приветливость, но вышло почти страшновато. Большой рот распахнулся, показывая два ряда больших и очень редко торчащих зубов. Щеки и нос в сетке мелких красноватых капилляров. Главное – рост: таких больших людей не приходилось им видеть и в больших городах. На плечах – пришитая к пиджаку волчья шкура.
Это был Ромуальд Северинович Порхневич. Не чиновный, но природный правитель здешних мест. Он проверил документы и, кажется, вычитал из них что-то новое для себя.
И без специальных его объяснений наступило понимание: лучше ему не перечить, и тогда жизнь будет терпимой.
Шинок стоял запертый уже не первый год. Ромуальд отодрал доски с оконных проемов, велел растопить печь и приставил к кухне девку для обедов. Сказал, что сам даст дров на это дело и будет даже платить три рубля в месяц той кухарке. Взялась Машка Жабковская, рослая, великовозрастная, вечно вздыхающая («Аб чем вздыхаешь, Маша?» – «Аб жизни!..») девка из дома, что через один от шинка. Три рубля – деньги.
А будешь стирать, так и еще два рубля.
Машка вздохнула и согласилась стирать.
Теперь – чем вам, господа, заняться?
В полицейских бумагах были прописаны запреты для господ студентов на разного рода занятия. Но запрещалось им по большей части такое, чего в здешних местах и так не имелось в заводе.
Ромуальд Северинович легко нашел для обоих полезное применение. Особенно быстро – для инженера. Уже на третий день повез его на своей бричке на мельницу в лесной излучине на Чаре, что арендовал у него молодой мужик из Сынковичей, по фамилии Кивляк. Там надо было наладить колесо, которое с прошлого месяца после наехавшей на него коряги стало сбоить и вообще останавливаться. Попытки поправить его обычным мужицким способом результата не давали.
Скиндер осмотрел уже довольно старое устройство и предложил выбросить его и переделать все по-новому, он-де видел на выставке в самом Брюсселе. Дорого? А это ничего, скоро окупится, и мельница станет знаменита на всю округу. Кивляк не очень хотел. Он стремился в собственники и почти уж выкупил мельницу у Ромуальда Севериновича, а тут намечалось сильное продление кабалы. Не хочешь? Тогда пошел вон! Так поставил вопрос Ромуальд, выразительно поправляя волчью шкуру на плечах. Нрав его был известен, спорить долго было опасно. Тем более он обещал помочь с деньгами, пришлось согласиться. В конце концов бельгийское устройство выписали и установили, и оно заработало, только арендатор конечно же попал в новый, совершенно неоплатный долг своему благодетелю. Кивляк скрытно ярился, но что было делать, у мельников всегда почему-то огромные семьи. Как-то надо кормить.
А инженеру-то что, по своей профессиональной части он сработал наилучшим образом. И его стали приглашать то туда, то сюда. Ромуальд Северинович велел только, чтобы все эти отлучки происходили с его «высочайшего» ведома. Он никогда не запрещал даже дальние экспедиции, но желал, чтобы все они проходили как им лично позволенные.
Пан Гигевич из Новосад попросил наладить маслобойку. Съездил Скиндер, наладил. А заодно разобрался с водонапорной башней у пана Разгонского, что хозяйничал совсем уж далече, за аэродромом на краю Пущи, почти у костела.
Были и мелочи – вроде фейерверков по праздникам в городском саду в Волковыске.
Скиндер больше времени проводил на работах, чем в Порхневичах.
Ромуальд Северинович так поставил дело, что с просьбами о профессиональном применении ссыльного инженера обращались обязательно к нему, и он конечно же не отказывал разным уважаемым соседям. Выглядело все так, будто молодой немец отдается в инженерную аренду от пана Ромуальда. Прямые вопросы в провинции не принято задавать – тонкости обхождения среди местной «шляхты» соблюдались сугубо. Предлагалось домысливать и злословить в сторонке. Становой пристав, пару раз наезжавший в порядке «наблюдения за соблюдением правил», а на самом деле по тихой жалобе некоторых соседей, пил чай с Ромуальдом Севериновичем, уложив в портмоне банкноту, и тем самым как бы узаконивал сложившийся порядок вещей.
Скиндер обо всей этой паутине тончайших местных взаимоотношений ничего не знал, поскольку вел образ жизни, который ему, в общем, нравился и приносил определенный доход.
Петя юрист отбывал ссылку стационарно; применить его с пользой оказалось труднее. В полицейском документе прямо прописывался запрет воздействия на народные умы со стороны ссыльного. А Ромуальд Северинович, после того как в Гуриновичах скончался пан Пшегрода и закрылась школа – указанный пан был единственным учителем, – очень был занят мыслью о том, что «его дети» растут неуками.
К отцу Ионе обращаться за помощью по этой части невозможно было по двум причинам. Первое – не одобрит ксендз Бартошевич, а от него в очень большой степени зависело, будет ли пан Порхневич полноценно принят местным «обществом» в число своих. Второе было связано с первым. Иона сам бы ни за что не согласился пойти навстречу Ромуальду Севериновичу после той истории с подружкой дочери ксендза Бартошевича и решительным вмешательством в это дело пана Порхневича.
Сосланный юрист показался очень подходящей фигурой на роль Пшегроды. Ромуальд решил, что «его дети» будут учиться. Он делил детей на «своих» и «чужих» по особому принципу. Старшего собственного сына Доната, чуть замедленного в развитии, он и не собирался мучить науками, а, скажем, вечно сопливого, но очень сообразительного Ваньку Михальчика велел его родителям обязательно отдать юристу в ученики и даже выдал мешок ячменя как бы в компенсацию за отсутствие хлопца на домашних работах.
Ивашов, когда ему предложили, пожал плечами: в общем, что же, дело было ему знакомое, он, как многие студенты, иногда подрабатывал уроками, но нерегулярно, а лишь в виде фронды против вполне состоятельной родни, от которой зависел финансово. То есть не кормился уроками, а развлекался. Но объяснять эти столичные детали громадному белорусскому зубру с волчьей шубой на загривке – какой смысл?