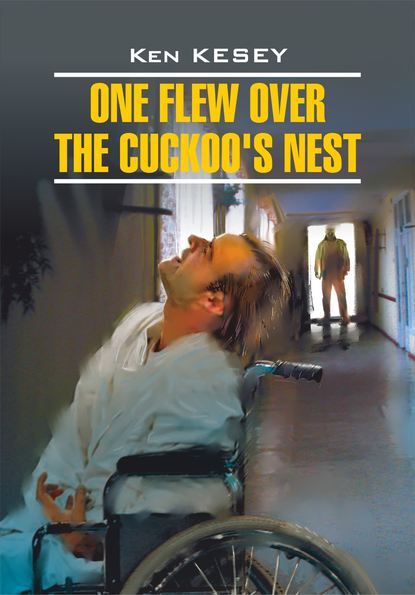Полная версия
Над гнездом кукушки

Кен Кизи
Над гнездом кукушки
Ken Kesey
ONE FLEW OVER THE CUCKOO’S NEST
Copyright © Ken Kesey, 1962.
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form. This edition published by arrangement with Viking, a member of Penguin Group (USA) Inc
Перевод с английского Дмитрия Шепелева
Оформление серии Натальи Ярусовой
В коллаже на обложке использованы фрагменты работ художников Эндрю Уайета и Франсуа-Эмиля Барро
© Шепелев Д., перевод на русский язык, 2022
© Издание на русском языке, оформление. Издательство «Эксмо», 2022
* * *Вику Ловеллу,
который сказал мне, что нет никаких драконов, а потом привел в их логово.
Кто на запад – ни пера, на восток – ни пуха,
Ну а кто-то пролетел над гнездом кукухи.
Детская считалкаЧасть первая
1
Там они.
Черные ребята в белой форме, рукоблудят в коридоре, спустят на пол и подотрут, пока я их не застукал.
Как раз подтирают, когда выхожу из палаты, все трое хмурые и ненавидят все вокруг, ранний час, это самое место, людей, с кем приходится работать. Когда так ненавидят, лучше им не попадаться. Я крадусь по стенке в парусиновых туфлях, но у них такие специальные датчики на мой страх, и они поднимают взгляд, все трое, глаза сверкают на черных лицах, словно лампы в старой радиоле.
– А вот и Вождь. От такой Вождь, ребзя. Вождь Швабра. На-ка, старик…
Сует мне тряпку в руку и показывает, где мыть сегодня, и я иду. Другой подгоняет, стуча по ногам ручкой швабры.
– Хах, гляньте на него, ёпрст. Такой громила, мог бы яблоки есть с моей головы, а смирный, как дите.
Смеются, а потом слышу, что-то бормочут, составив головы. Загудела черная машина, загудела ненавистью, смертью и прочими больничными секретами. Они при мне не делают секрета из своей ненависти, потому что думают, я глухонемой. Все так думают. Я довольно хитрый, чтобы обдурить их. Если мне хоть чем-то помогла в этой грязной жизни половина индейской крови, так это хитростью, все эти годы помогала.
Когда я мою перед дверью в отделение, слышу, как снаружи вставляют ключ, и понимаю, это Старшая Сестра, так плавно входит ключ в замок, легко и быстро, приноровилась за все время. Она проскальзывает внутрь, впуская холодный воздух, и закрывает дверь, и я вижу, как ее пальцы гладят полированную сталь – кончики пальцев в тон губам. Ярко-оранжевые. Словно кончик раскаленного железа. Цвет такой горячий или холодный, что не поймешь, если она коснется тебя.
У нее плетеная сумка, вроде тех, какие продает племя ампква[1] в августе, на обочине раскаленного шоссе, по форме точно ящик с инструментами, с ручкой из пеньки. Она с ней все время ходит. Плетение свободное, и мне видно, что внутри; ни косметички, ни помады, никаких женских вещиц, но навалом всякой всячины для рабочих задач – шарики и ролики, шестеренки, начищенные до блеска, пилюльки, блестящие, как фарфор, иглы, кусачки, пинцеты, мотки медной проволоки…
Кивает мне, когда проходит мимо. Я отъезжаю от швабры к стене и улыбаюсь, опуская глаза, всеми силами стараясь заглушить ее датчики – тебя не видно до нутра, когда закрыты глаза.
Слышу в темноте, как ее резиновые каблуки стучат по кафелю, а добро в сумочке брякает в такт шагам. Шагает скованно. Когда открываю глаза, она уже дошла до стеклянной будки, где просидит весь день за столом, глядя через окошко в дневную палату и все записывая, восемь часов кряду. Лицо довольное, себе на уме.
И тут… она засекает черных ребят. Они стоят все там же и знай себе треплются. Не слышали, как она вошла в отделение. Теперь почуяли ее взгляд, но уже поздно. Хватило ума прохлаждаться, когда ее смена. Развели подальше лица, винятся. А она надвигается на них в полуприседе, собирается зажать в углу и сцапать. Она знает, о чем они трепались, и я вижу, как она рассвирепела. Удержу нет, готова черных гадов в клочья разорвать. Она раздувается, халат на спине трещит, и руки выдвигаются настолько, что пять-шесть раз обернут всю их троицу. Поводит туда-сюда массивной головой. Никого поблизости, только старый полукровка Швабра-Бромден спрятался за своей шваброй и не может позвать на помощь, потому что немой. Так что опасаться некого, и ее накрашенная улыбка кривится, растягиваясь в оскал, а сама она все растет и растет, уже с трактор вымахала, до того огромная, что я чую запах мотора, словно тягач надрывается. Я задерживаю дыхание и смекаю, боже правый, на этот раз им кранты! На этот раз они возвели такую ненависть, выше крыши, что в клочья разорвут друг дружку, и глазом моргнуть не успеют!
Но едва сестра начала оборачивать черных раздвижными руками, а те – потрошить ей нутро ручками швабр, как из палат показались на шум пациенты, и сестра быстро вернула свою маскировку, пока ее не застали в подлинном виде. К тому времени, как пациенты навели свои глаза на резкость, чтобы рассмотреть, что там за сыр-бор, они увидели всего лишь Старшую Сестру, говорящую черным ребятам в своей обычной, сдержанной манере, со спокойной улыбкой, что негоже прохлаждаться утром понедельника, когда столько всего надо сделать в первое утро новой недели…
– …Сами понимаете, ребята, понедельник день тяжелый…
– Ну да, миз Рэтчед…
– …И у нас хватает дел на утро, так что, если ваше внеочередное совещание не слишком срочное…
– Ну да, миз Рэтчед…
Она умолкает, чтобы кивнуть отдельным пациентам, вставшим поодаль, глазеющим красными, припухшими со сна глазами. Каждого выделяет кивком. Четким, как у робота. Лицо у нее гладкое, выверенное и проработанное, как у дорогой куклы, кожа из эмали натурального бело-кремового цвета, голубые глаза, носик пуговкой, розовые ноздри – все тютелька в тютельку, кроме цвета губ и ногтей, да еще размера груди. Где-то в расчеты закралась ошибка, и на идеальную в остальном фигуру навесили эти большущие груди, предмет ее постоянной досады.
Пациенты все стоят и кумекают, за что сестра распекает черных, так что она вспоминает про меня и говорит:
– И раз уж сегодня понедельник, почему бы нам, ребята, не задать хороший старт этой неделе, побрив первым делом бедного мистера Бромдена, пока не началась обычная толкучка в цирюльне после завтрака, и постараться избежать… э-э… суматохи, какую он обычно вызывает, что скажете?
Пока никто не обернулся на меня, я пячусь в чулан, прикрываю дверь и задерживаю дыхание. Бриться до завтрака – хуже некуда. Когда заморил червячка, у тебя хоть какая-то сила и бдительность, и гадам, что работают на Комбинат, не так-то просто подобраться к тебе со своими машинками вместо электробритвы. Но когда бреют до завтрака, как она мне иногда устраивает – полседьмого утра в комнате с белыми стенами, и раковинами, и трубчатыми лампами на потолке, не дающими теней, и кругом тебя кричат лица, захваченные зеркалами, – что ты можешь против их машинок?
Я прячусь в чулане и слышу, как сердце стучит в темноте, и стараюсь прогнать страх, отогнать подальше мысли – даю им задний ход и вспоминаю поселок и большую реку Колумбию, когда однажды, эх, пошли мы с папой охотиться на птиц в кедровнике под Даллесом[2]… Но, как всегда, когда я пытаюсь задвинуть мысли в прошлое и схорониться там, страх тут как тут, просачивается в мою память. Чую, как один черный малый идет по коридору, вынюхивая мой страх. Выставил ноздри, точно двустволку, и башкой туда-сюда поводит, втягивая страх со всего отделения. Вот, и меня почуял, слышу, фыркает. Где я прячусь, не знает, но рыщет и вынюхивает. Замираю…
(Папа говорит, замри, говорит, собака почуяла птицу, вот-вот выгонит. Мы одолжили легавую у человека из Даллеса. Папа говорит, поселковые собаки сплошь дворняги пар-вшивые, на рыбьей требухе весь нюх растеряли; а энта собака, у ней истинт! Я ничего не говорю, а сам вижу птицу в можжевельнике, припала к земле серым комком перьев. Собака бегает кругами, ошалев от запаха, хоть и легавая. Птица жива, покуда сидит смирно. Она держится до последнего, но легавая все кружит и вынюхивает, все громче и ближе. И вот птица срывается, расправив крылья, и вылетает из можжевельника прямо под папину дробь.)
Не успел я сделать десять шагов от чулана, как меня ловят двое черных, самый мелкий и побольше, и тащат в цирюльню. Я не упираюсь, не шумлю. Закричишь, тебе же хуже. Сижу, терплю. Терплю, пока до висков не добрались. Сперва я еще сомневался, бритва это или одна из тех вражьих машинок; но как до висков добрались, тут уж всё. Как тронули виски, никакой воли не хватит. Это ж… как кнопку нажали – воздушная-тревога-воздушная-тревога, – и я включаюсь на такую громкость, что звука не слышно, и все орут на меня из-за стекла, заткнув уши и раззявив рты, но без звука. Я их всех переозвучил. Опять включают туман, и меня засыпает снег, белый и холодный, точно снятое молоко, да так густо, что я мог бы туда занырнуть, если б меня не держали. Не вижу ни зги в тумане, слышу только, кроме вопля своего, как Старшая Сестра голосит и чешет по коридору, раскидывая пациентов своей сумкой. Слышу ее все ближе, но не могу замолчать. Так и вою, пока она подходит. Меня держат, а она пихает мне в рот сумку со всем добром и проталкивает ручкой швабры.
(Крапчатая гончая заливается лаем в тумане, носится, испуганная, потому что не видит. Никаких следов на земле, кроме собственных, и она нюхает все вокруг холодным резиновым носом и не чует ничего, кроме своего страха, прожигающего ее насквозь.) Вот и меня также прожжет, и я наконец расскажу про все это, про больницу, про сестру с ребятами и про Макмёрфи. Я так долго молчал, что теперь меня прорвало, как плотину, и вы решите, раз чувак несет такое, он выжил из ума, бог ты мой; решите, не могло быть ужаса такого, слишком это кошмарно для правды! Но прошу вас. Мне все еще непросто собраться с мыслями, как подумаю об этом. Но это правда, даже если было все не так.
2
Когда туман рассеивается и снова все видно, я сижу в дневной палате. На этот раз меня не повезли на шоковую терапию. Помню, после бритья заперли в изоляторе. Не помню, давали завтрак? Наверно, не давали. Другой раз, бывало, лежу утром в изоляторе, и черные приносят всякий хавчик – вроде как мне, а уплетают сами, – так все трое и позавтракают за мой счет, пока я лежу на ссаном матрасе, глядя, как они яичницу хлебом подчищают. Пахнет топленым салом, и жареный хлеб хрустит на зубах. А то еще холодной каши принесут и заставят съесть, даже без соли.
Но этого утра совсем не помню. В меня будь здоров напихали этих самых пилюлек, так что в памяти провал, а потом слышу, дверь отделения открывается. Если она открывается, значит, самое раннее восемь часов, значит, я пролежал в изоляторе часа полтора в отключке, когда могли прийти техники и приделать мне все, что Старшая Сестра прикажет, а я и не узна́ю.
Слышу возню у двери, дальше по коридору, но что там, не видно. Эта дверь начинает открываться в восемь и за день сто раз откроется-закроется, шух-шух, клац. Каждое утро мы сидим по струнке вдоль стен дневной палаты, складываем мозаики после завтрака, слушаем, как ключ в замке поворачивается, и ждем, что будет. Больше заняться нам особо нечем. Иногда заходит кто-нибудь из молодых врачей при больнице, посмотреть на нас, какие мы до приема лекарств. До п. л., как они говорят. Иногда жена кого-то навещает, на шпильках, прижимая сумочку к животу. А то еще приводит школьных училок этот дурачок из общественных связей, который вечно хлопает потными ладошками и говорит, как ему радостно, что психбольницы теперь покончили с прежней жестокостью. «Какая душевная атмосфера, не правда ли»? Крутится вокруг училок, сбившихся в кучку для надежности, и хлопает ладошками. «Ох, как вспомню, что творилось в прежние дни, всю эту грязь, плохое питание и, да, бесчеловечность, ох, ясно вижу, дамы, как далеко мы продвинулись по пути прогресса»! Кто бы ни вошел в эту дверь, мы им обычно не рады, но всегда остается надежда, и когда вставляют ключ в замок, все головы поворачиваются как по команде.
Этим утром замок щелкает как-то чудно; за дверью кто-то необычный. Слышен голос сопровождающего, напряженный и нетерпеливый: «Принимайте нового, подойдите, распишитесь за него», – и черные идут.
Новый. Все прекращают играть в карты и «Монополию», поворачиваются к двери палаты. Почти всегда я мету коридор и вижу, кого записывают, но этим утром, как я уже объяснил, Старшая Сестра напихала в меня стотыщ фунтов, и я не сдвинусь с места. Почти всегда я первый вижу нового, смотрю, как он юркнет в дверь, прокрадется по стеночке и встанет весь зашуганный, пока черные ребята подойдут расписаться за него и отведут в душ, где разденут и оставят дрожать с открытой дверью, а сами, все втроем, будут весело бегать туда-сюда, ища вазелин. «Нам нужен этот вазелин, – скажут они Старшей Сестре, – для термометра». Она окинет их взглядом: «Ну, разумеется, – и даст вот-такенскую банку, – но смотрите, ребята, не толпитесь там». А дальше я вижу, как двое, а то и все трое, набьются туда, в душевую, вместе с новеньким, и обмазывают термометр вазелином, слоем в палец, приговаривая: «Так-точь, мать, так-точь», – а затем закроют дверь и вывернут все краны, чтобы ничего не было слышно, кроме злого шипения воды по зеленому кафелю. Я почти всегда неподалеку и все вижу.
Но этим утром я сижу на месте и могу только слышать, как оформляют нового. И все равно, даже не видя его, я понимаю, что он не такой, как другие. Не слышу, чтобы он шелестел по стеночке, а когда ему говорят про душ, он не следует за ними, покорно потупив глазки, а отвечает громким, раскатистым голосом, что его уже отмыли дочиста, спасибо.
– Меня уже помыли утром в здании суда и прошлым вечером, в кутузке. И чесслово, мне бы еще уши промыли, пока везли сюда в такси, если бы нашли такой приборчик. Ёлы-палы, похоже, всякий раз, как меня переводят куда-то, им надо отдраить меня перед, после и во время этого процесса. Только заслышу воду, начинаю собирать вещички. И отвали, Сэм, с этим термометром, дай минутку осмотреть новый дом; мне еще не приходилось бывать в Институте психологии.
Пациенты озадаченно переглядываются и снова смотрят на дверь, за которой слышен его голос. Громче, чем можно ожидать, когда черные поблизости. У него такой голос, словно он сверху вниз говорит, словно парит в вышине и покрикивает тем, кто на земле. Это голос старшего. Слышу, как он шагает по коридору, и это походка старшего, он уж точно не крадется; башмаки у него подкованные, и он цокает ими по полу. Возникает в дверях и стоит, большие пальцы в карманах, ноги шире плеч расставил, и все на него смотрят.
– Доброго утра, братва. – Над ним висит на бечевке бумажная летучая мышь, с Хеллоуина, и он щелкает по ней пальцем, запуская по кругу. – Дюже славный осенний денек.
Голосом он как папа, такой же громкий и ядреный, но сам на папу не похож; папа был чистокровный колумбийский индеец – вождь – твердый и лощеный, как приклад. Этот парень рыжий, с длинными рыжими баками и патлами из-под кепки, давненько не стриженный и такой широкий, каким папа был высоким, челюсть – во, плечи – во, и грудь колесом, усмехается во все зубы, и твердый он на свой манер, не как приклад, а как потертый бейсбольный мячик. Через нос и скулу тянется рубец, кто-то засветил ему в драке, и швы еще не сняты. Стоит и ждет чего-то, а поняв, что все словно присохли к своим местам и воды в рот набрали, разражается смехом. Никому невдомек, чего он смеется; ничего же смешного. И смех у него не то что у того типчика из общественных связей, а раскатистый и громкий, расходящийся из широкого рта кругами, все дальше и дальше, пока не раскатится по всему отделению. Ничего общего со смехом того типчика. Этот смех настоящий. И я вдруг понимаю, что много лет уже не слышал, чтобы кто-то так смеялся.
Он стоит, смотрит на нас, покачиваясь на каблуках, и знай себе смеется. Пальцы сплел на животе, а большими зацепился за карманы. Вижу, какие у него здоровые и натруженные руки. Все в отделении – пациенты, персонал, все – вне себя от него и его смеха. Никто не пытается возразить ему или что-то сказать. Он смеется вдоволь, а потом входит в дневную палату. И даже когда он уже отсмеялся, смех все равно исходит от него волнами, как звон от большого колокола, только что отзвонившего, – смех у него в глазах, в улыбке и походке, во всех его словах.
– Меня Макмёрфи звать, братва, Р. П. Макмёрфи, и я слаб до картишек. – Подмигивает и говорит нараспев: – И как только увижу колоду карт… мои денежки… так и летят, – и опять смеется.
Подходит к картежникам, отклоняет толстым грубым пальцем веер одного острого, щурится на него и качает головой.
– Да, сэр, за этим я и пожаловал к вам в заведение, добавить вам, пташки, веселья за карточным столом. На работной ферме Пендлтона никого уже не осталось, кто бы скрашивал мне дни, вот я и запросил перевода, такие дела. Заскучал по новой крови. Ёксель, гляньте, как этот птиц держит карты, всей хате видать; блин! Да я вас буду стричь, как овечек.
Чезвик придвигает карты к себе. Рыжий протягивает Чезвику руку.
– Здорово, браток; во что играешь? Пинакл? Боже, еще бы ты заботился прятать карты. Нет у вас здесь нормальной колоды? Ну ладно, проехали, я свою захватил, если что, у меня тут кой-чего помимо фигурных карт – зацените картинки, а? Все разные. Пятьдесят две позы.
У Чезвика уже глаза на лоб полезли, и то, что он видит на этих картах, не способствует его душевному равновесию.
– Полегче, не трепите их; времени у нас полно, наиграемся вволю. Я за то, чтобы играть своей колодой, потому что другим игрокам нужно не меньше недели, чтобы начать видеть масть…
Одет он в грубые штаны и рубашку, выцветшие до разбавленного молока. Лицо, шея и руки у него загорели до кирпичного цвета от долгой работы в поле. Черная мотоциклетная кепка набекрень, через руку перекинута кожаная куртка, а башмаки серые, пыльные, да такие здоровые, что одним пинком можно угробить. Он отходит от Чезвика, снимает кепку и выбивает из штанов облако пыли. Один из черных хочет подобраться к нему с термометром, но все никак; рыжий затесался к острым и давай всем руки пожимать, а черный кружит вокруг. Речь, мимика, голос рыжего и весь кураж – все это мне напоминает торговца машинами или домашним скотом, или еще такого зазывалу, в полосатой рубашке с желтыми пуговицами, какие иногда на карнавале завлекают публику на помосте, со своими растяжками, полощущимися на ветру.
– Дело, собственно, какое: встрял я пару раз в разборки на работной ферме, если уж совсем начистоту, и суд постановил, что я психопат. А я что, думаете, буду с судом спорить? Еще чего, можете побиться об заклад, ни в коем разе. Если это вытащит меня с чертовых гороховых полей, я буду кем их душеньке угодно, хоть психопатом, хоть бешеной собакой, хоть вурдалаком, потому что я не затоскую, если не увижу этих мотыг до самого смертного дня. А теперь мне говорят, психопат – это тот, кто дерется да ебется сверх меры, но тут они малость заблуждаются, как по-вашему? То есть где это слыхано, чтобы мужику было пилоток сверх меры? Привет, салага, как тебя зовут? Меня – Макмёрфи, и могу поставить два доллара, не сходя с места, что ты мне не скажешь, сколько очков у тебя на руках – не смотреть. Два доллара; по рукам? Ёлы-палы, Сэм! Не можешь полминутки не лезть ко мне с этим чертовым термометром?
3
Макмёрфи стоит и смотрит с минуту, изучая обстановку в дневной палате.
По одной стене пациенты помоложе – это острые, и их не спешат чинить – они борются на руках и занимаются карточными фокусами, где нужно добавлять и вычитать, высчитывая какую-нибудь карту. Билли Биббит учится сворачивать самокрутки, чтобы не хуже фабричных сигарет, а Мартини ходит туда-сюда и подбирает вещи из-под столов и стульев. Острые довольно много двигаются. Перешучиваются, хихикая в кулак (никто не смеет рассмеяться по-настоящему, а то набегут врачи с блокнотами и закидают вопросами), и пишут письма огрызками желтых карандашей.
Стучат друг на друга. Иногда кто-нибудь сболтнет про себя лишнего, а один из его приятелей зевнет, встанет из-за стола и бочком-бочком к журналу учета у сестринской будки, и запишет, что услышал, – в терапевтических интересах всего отделения, как говорит Старшая Сестра, но я-то знаю, что она просто собирает компромат, чтобы отправить кого-нибудь в первый корпус, на капремонт головного модуля.
Кто написал в журнал, тому ставят звездочку в табеле, и назавтра он может спать допоздна.
Вдоль стены напротив острых – выбраковка Комбината, хроники. Эти не затем в больнице, чтобы их чинили, а просто чтобы не шатались по улицам, позоря медицину. Персонал вынужден признать, что хроники здесь бессрочно. Хроники делятся на ходячих вроде меня, какие еще могут двигаться, если их кормить, а также колесных и овощей. Кто такие хроники – или большинство из нас – это машины с внутренними дефектами, не подлежащие ремонту, дефектами врожденными или приобретенными, когда кто-нибудь столько лет бился головой о твердые предметы, что к тому времени, как его доставили в больницу, подобрав на пустыре, у него от головы одно название осталось.
Но есть среди хроников и такие, с кем медицина перестаралась, такие, кого вначале записали в острые, а потом переделали. Эллис – хроник, бывший острым, которому здорово досталось, когда его забрали на перекалибровку в этот гнусный мозголомный кабинет, который черные ребята называют «шокоблоком». Теперь он пригвожден к стене в том виде, в каком его стащили со стола в последний раз, в той же позе, руки наружу, пальцы скрючены, с тем же ужасом на лице. Так и прибит к стене, точно чучело. Ему вынимают гвозди, когда пора его кормить или везти спать, и тогда я могу вытереть его лужу. На прежнем месте он простоял так долго, что ссаки проели пол и перекрытия под ним, и он постоянно проваливался в нижнее отделение, отчего персонал сбивался со счета.
Ракли тоже хроник, которого сперва, несколько лет назад, записали в острые, но ему устроили другую перекалибровку – напутали с головным монтажом. Он был сущим наказанием, носился повсюду, пинал черных ребят и кусал за ноги практиканток, вот его и забрали на починку. Привязали к этому столу и закрыли дверь, и какое-то время никто его больше не видел; перед тем как закрыли дверь, он подмигнул нам и сказал черным, которые его боялись: «Вы еще поплатитесь за это, смоляные чучелки».
Его вернули в отделение через две недели, лысым, с лиловым отекшим лицом и парой махоньких шайбочек, вшитых над самыми бровями. По его глазам видно, как его выжгли изнутри; они у него мутные, серые и пустые, словно сгоревшие предохранители. Он теперь целыми днями только и делает, что держит перед своим выгоревшим лицом старую фотокарточку, вертя ее холодными пальцами, и до того замусолил, что уже не поймешь, что там было.
Так вот, персонал считает Ракли своей неудачей, но я сомневаюсь, что ему было бы лучше даже с идеальным монтажом. В наши дни монтажи у них в основном успешные. Техники набрались навыков и опыта. Теперь уже никаких тебе шайбочек во лбу, кожу вообще не трогают – проникают через глазницы. Бывает, уходит кто-нибудь на монтаж, вредный, буйный, злой на весь мир, а через несколько недель возвращается с синяками под глазами, словно после драки, и это милейшее, добрейшее, тишайшее создание. Через месяц-другой, глядишь, и домой выпишут, только шляпу натянут пониже, чтобы скрыть лицо лунатика, который видит на ходу простой, счастливый сон. В их понимании это успешный случай, а в моем – еще один робот из Комбината, и лучше бы ему не повезло, как Ракли, который сидит и пускает слюни над фотокарточкой. Больше он ничего не делает. Иногда его дразнит черный коротышка, наклоняясь вплотную и спрашивая: «Скажи-ка, Ракли, что там твоя женушка поделывает вечером?» Ракли поднимает голову. Память шуршит в его расстроенном механизме. Он краснеет, и вены у него вздуваются. Его так корежит, что слышно шипение в горле. На губах собирается пена, он скрежещет зубами, тужась что-то сказать. И наконец собирается с силами и хрипит так мучительно, что у тебя мурашки: «Хххххххуй ей! Хххххххуй ей»! – и отрубается от перенапряжения.
Эллис и Ракли моложе всех из хроников. А старше всех – полковник Маттерсон, старый колченогий кавалерист с Первой мировой, задирает юбки своей клюкой медсестрам или, когда находятся слушатели, читает лекции по истории, глядя себе в левую ладонь. Он самый старый в отделении, но он тут не дольше всех – жена привезла его всего несколько лет назад, когда решила, что больше не может за ним присматривать.
Дольше всех в отделении я – со Второй мировой войны. Никто тут столько не пробыл. Никто из пациентов. Только Старшая Сестра здесь дольше моего.