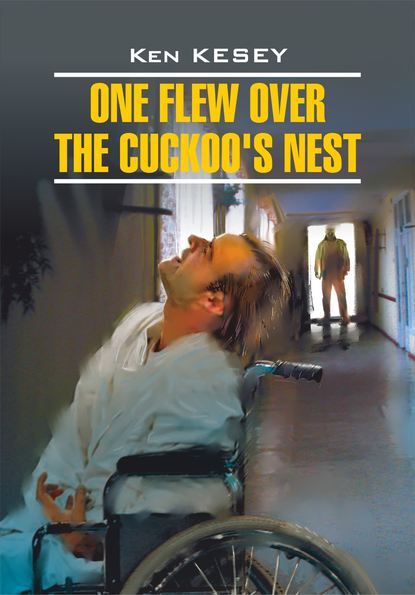Полная версия
Над гнездом кукушки
Так что, как только Старшая Сестра набрала свою команду, отделение стало работать с точностью часового механизма. Все, что ребятам положено думать, говорить и делать, разрабатывается заранее, на месяцы вперед, на основании заметок, которые изо дня в день пишет Старшая Сестра. Все это печатают и скармливают машине, гудящей за металлической дверью позади сестринской будки. Машина выдает им Карточки дневного распорядка (КДР), перфорированные квадратными дырочками. Каждый день начинается с того, что такую карточку с нужной датой вставляют в слот в стальной двери, и стены отвечают гудением: в шесть тридцать включается свет в палате – острые быстро встают с кроватей, и черные ребята выпроваживают их, раздавая поручения: натереть полы, вычистить пепельницы, оттереть со стены разводы, где накануне закоротило одного старика и он упал в корчах и дыму, воняя жженой резиной. Колесные спускают мертвые ноги-колоды на пол и ждут, словно статуи, пока им подгонят коляску. Овощи мочатся в кровать, отчего замыкается цепь и звенит звонок, черные ребята катят их в душевую, моют из шланга и одевают в чистое зеленое…
В шесть сорок пять гудят электробритвы, и острые выстраиваются перед зеркалами в алфавитном порядке: А, Б, В, Г… После всех острых заходят ходячие хроники вроде меня, а потом закатывают колесных. Под конец остаются трое стариков, с пленкой желтой плесени на шеях, которых бреют в шезлонгах, в дневной палате, закрепив им головы кожаными ремнями, чтобы не вертелись во время бритья.
Иногда по утрам – особенно по понедельникам – я прячусь, пытаясь саботировать систему. В другие утра хитрость советует мне встать в очередь, на свое алфавитное место, между А и В, и двигаться со всеми, не отнимая ног от пола – под полом мощные магниты – и обтекая персонал, как марионетки в игровых автоматах…
В семь открывается столовка, и очередь выстраивается в обратном порядке: сперва колесные, затем ходячие, а под конец берут подносы острые, набирают кукурузных хлопьев, яичницу с беконом, поджаренный хлеб; сегодня утром к тому же персики из консервов на зеленом латуке. Кто-то из острых разносит подносы колесным. Большинство колесных – те же хроники с больными ногами, питаются самостоятельно, но среди них есть трое, парализованных ниже шеи, да и выше толку от них немного. Это и есть овощи. Черные ребята вкатывают их после того, как все уже расселись, ставят у стены и приносят им подносы с диетическими карточками, уставленные одинаковой на вид мазней. «Машинное пюре», гласят диетические карточки для этой беззубой троицы: яйца, ветчина, хлеб, бекон – все пережевано тридцать два раза металлической машиной в кухне. Так и вижу, как эта машина поджимает свои секционные губы, словно шланг пылесоса, и сплевывает на тарелки сгустки пережеванной ветчины со звуком отрыжки.
Черные ребята суют ложки в беззубые рты слишком быстро, так что они не успевают глотать, и машинное пюре течет у них по подбородкам на зеленую форму. Черные ребята бранят овощей и раскрывают им рты пошире, крутанув ложкой, словно вычищают гнилушку из яблока:
– Ох уж энтот старпер Бластик, он у меня на глазах разваливается. Я уже не знаю, жует он пюре из бекона или свой сраный язык…
В семь тридцать мы возвращаемся в дневную палату. Старшая Сестра смотрит на нас сквозь свое спецстекло, всегда отполированное так, что его и не видно, и, кивнув сама себе, отрывает лист календарика – на день ближе к цели. Она нажимает кнопку и запускает новый день. Слышу, где-то встряхивают большой жестяной лист. Каждый делает что кому положено. Острые: сидят на своей стороне палаты и ждут, пока им принесут карты и «Монополию». Хроники: сидят на своей стороне и ждут, пока им принесут мозаику в коробке от сигарет «Красный крест»[8]. Эллис: идет к своему месту у стены и поднимает руки, чтобы его пригвоздили, и мочится под себя. Пит: качает головой, как болванчик. Скэнлон: елозит узловатыми пальцами по столу, собирая воображаемую бомбу, чтобы разнести воображаемый мир. Хардинг: разглагольствует, помавая своими руками-птицами, а затем прячет их под мышки, потому что негоже взрослым так махать красивыми руками. Сифелт: ноет о больных зубах и выпадающих волосах. Все разом: вдыхают… и выдыхают… в идеальном порядке; все сердца стучат в унисон, согласно КДР. Слышно, как стройно работают поршни.
Как в мультяшном мире, где плоские фигурки, очерченные черным контуром, разыгрывают какую-то дурацкую историю, которая могла бы показаться смешной, не будь эти фигурки живыми людьми…
В семь сорок пять хроникам приклеивают катетеры – тем, кто готов это терпеть. Катетеры – это использованные презики со срезанным концом, натянутые на трубки, идущие из-под штанов в полиэтиленовые пакеты с надписью «ДЛЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ», которые я должен мыть каждый вечер. Черные ребята для надежности приклеивают презики изолентой; у старых катетерных хроников там давно все гладко, как у младенцев…
В восемь утра стены уже гудят вовсю. Репродуктор в потолке говорит голосом Старшей Сестры:
– Лекарства.
Мы смотрим на стеклянную будку, где она сидит, но она ничего не говорит в микрофон; она вообще в десяти футах от микрофона, показывает одной из младших сестер, как аккуратно собирать поднос с лекарствами, чтобы все лежало по порядку. Острые выстраиваются к стеклянной двери – А, Б, В, Г, за ними хроники, потом колесные (овощам дадут таблетки после всех, растертые в ложке яблочного пюре). Все подходят и получают таблетки в бумажном стаканчике – бросаешь таблетку в рот и протягиваешь стаканчик младшей сестре, чтобы она налила в него воду, и запиваешь. Изредка какой-нибудь дурень спросит, что это такое он должен глотать.
– Ну-ка, погодь, лапочка; что это за красные таблеточки с моей витаминкой?
Я его знаю. Большой такой, ворчливый острый, уже прослывший возмутителем спокойствия.
– Просто лекарства, мистер Тэйбер, для вашей пользы. Ну же, примите.
– Но я в смысле, что за лекарства. Господи, я и сам вижу, что это таблетки…
– Просто проглотите их все, хорошо, мистер Тэйбер? Только ради меня.
Она бросает взгляд на Старшую Сестру, ища одобрения своей тактике умасливания, и снова смотрит на острого. Который все еще не готов проглотить неизвестно что, даже ради нее.
– Не хочу создавать проблемы, мисс. Но я также не хочу глотать не пойми что. Откуда мне знать, что это не одна из тех чудны́х пилюлек, от которых я стану не тем, кто я есть?
– Не переживайте, мистер Тэйбер…
– Переживать? Я всего лишь хочу знать, христаради…
Но тут незаметно подкралась Старшая Сестра и взяла его за локоть, парализовав до самого плеча.
– Все в порядке, мисс Флинн, – говорит она. – Если мистер Тэйбер решил вести себя как маленький, нам придется поступить с ним соответствующим образом. Мы пытались быть добрыми и деликатными. Видимо, зря. Враждебность, одна враждебность – вот чего мы добились. Можете идти, мистер Тэйбер, если не хотите принимать лекарства орально.
– Я всего лишь хотел узнать, Христа…
– Можете идти.
Она отпускает его руку, и он уходит, ворча, и слоняется перед уборной, гадая, что это за таблетки. Один раз я спрятал такую под язык и сделал вид, что проглотил, а потом вскрыл в чулане. За долю секунды перед тем, как она превратилась в белую пыль, я различил там микросхему, вроде тех, с какими имел дело в армии, в радарных частях: микроскопические проводки, электроды и транзисторы – из тех, что растворяются при контакте с воздухом…
В восемь двадцать выдают карты и мозаику…
В восемь двадцать пять один острый сболтнул, как подглядывал за сестрой в ванной; трое, сидевшие с ним за столом, встали и двинулись, толкаясь, к журналу учета…
В восемь тридцать открывается дверь в отделение, и вваливаются два техника, источая винные пары; техники всегда ходят быстро, чуть не бегом, потому что всегда чертят носом и должны двигаться, чтобы не упасть. Они всегда чертят носом и всегда пахнут так, словно стерилизовали свои инструменты в вине. Они вошли в лабораторию и прикрыли за собой дверь, но я мету неподалеку и различаю голоса сквозь зловещее зззы-зззы-зззы, словно точат ножи.
– Что у нас в этот безбожно ранний час?
– Надо вживить выключатель любопытства одному проныре. Она говорит, дело срочное, а я даже не уверен, есть ли у нас в запасе одна из этих хреновин.
– Может, придется звякнуть в Ай-Би-Эм, чтобы выцепить одну для нас; дай-ка схожу переспрошу на складе…
– Эй, захвати-ка бутылку того чистогана, раз уж пойдешь, а то я вообще ни хрена не вживлю – надо хлебнуть для разогрева. Ладно, какого черта, это лучше, чем работать в гараже…
Голоса напряженные, к тому же они и так тараторят, словно это не живые люди, а мультяшки. Я отхожу подальше, чтобы не подумали, что грею уши.
Двое больших черных ловят Тэйбера в уборной и тащат в матрацную. Одного он пнул в голень. Орет как резаный. Поражаюсь, как он беспомощен в их руках, словно скован вороненой сталью.
Его валят на матрац лицом вниз. Один садится ему на голову, а другой стаскивает с него штаны и белье, оголяя филейную часть в обрамлении салатовой ткани. Он сдавленно ругается в матрац, а черный, который у него на голове, приговаривает:
– Так-точь, миста Тэйба, так-точь…
По коридору идет Старшая Сестра с банкой вазелина и большим шприцом, заходит в матрацную и на секунду закрывает дверь, затем выходит, обтирая шприц клочком штанов Тэйбера. Банку с вазелином оставила в матрацной. Пока один черный не успел закрыть за ней дверь, я вижу, как тот, что сидит у Тэйбера на голове, промакивает его салфеткой. Проходит немало времени, прежде чем дверь открывается снова, и они несут его в лабораторию. Он уже раздет и обернут влажной простыней…
В девять часов приходят молодые практиканты – все с кожаными локтями – и пятьдесят минут расспрашивают острых, чем они занимались, когда были маленькими. Эти четкие ребята с аккуратными стрижками не внушают доверия Старшей Сестре, и она при них как на иголках. Пока они здесь, ее машина дает сбои, и она помечает у себя в блокноте с хмурым видом: не забыть проверить личные дела этих ребят на предмет нарушений ПДД и т. п.
В девять пятьдесят практиканты уходят, и машина снова гудит в обычном режиме. Старшая Сестра наблюдает дневную палату из стеклянной будки; сцена перед ней обретает прежнюю кристальную ясность, и пациенты снова напоминают смешных мультяшек.
Тэйбера выкатывают из лаборатории на каталке.
– Пришлось еще раз уколоть его, когда стал приходить в себя во время пункции, – говорят техники Старшей Сестре. – Что скажете, если мы его доставим в первый корпус и между делом приложим электрошоком – заодно барбитураты сэкономим?
– Думаю, это прекрасное предложение. Можете потом отвезти его на электроэнцефалографию и проверить голову – возможно, ему требуется операция на мозге.
Техники поспешно удаляются, увозя человека на каталке, словно мультяшки или марионетки, механические, как в одной серии «Панча и Джуди», где положено смеяться, когда марионетку лупит Черт и глотает с головы улыбчивый крокодил…
В десять приносят почту. Иногда в надорванных конвертах…
В десять тридцать приходят общественные связи с женским клубом. Этот типчик хлопает пухлыми ладошками у двери в дневную палату.
– Эгей, ребятки, здрасьте; выше нос, выше нос… посмотрите, девушки; разве не чисто, не пригоже? Это все мисс Рэтчед. Я выбрал это отделение потому, что оно ее. Она, девушки, всем как мать. Не в смысле возраста, но вы меня понимаете…
Воротничок у общественных связей такой тугой, что душит его, когда он смеется, а смеется он почти все время (над чем, не знаю), таким высоким, быстрым смехом, словно хочет поскорее досмеяться и не может. Его круглая физиономия наливается красным, напоминая шарик с нарисованной рожицей. Лицо у него безволосое, да и голова почти такая же; похоже, он приклеил пару волосинок, но они постоянно отклеиваются и сыплются ему на рубашку, в карман и за воротник. Может, поэтому он застегивает его так туго, чтобы туда не сыпались последние волосы.
Может, поэтому он и смеется – не может ничего поделать с волосами.
Он проводит эти туры с серьезными дамами в блейзерах, кивающими ему, когда он показывает, как все улучшилось за последнее время. Показывает им телевизор, большие кожаные кресла, гигиеничные питьевые фонтанчики; после чего они все идут в будку Старшей Сестры пить кофе. А бывает, он встанет один посреди дневной палаты, похлопает ладошками (такими влажными, что слышно), пока они не слипнутся, затем сложит их в молитвенном жесте под жирным подбородком и давай кружиться. Кружится и кружится посреди палаты, глядя дикими глазами на телевизор, новые картины на стенах, гигиеничный питьевой фонтанчик. И смеется.
Что он видит такого смешного, нам он никогда не говорит, а единственное, что я вижу смешного, это то, как он кружится на месте, словно кукла-неваляшка – раскрутишь такую, толкнешь, а она качнется и снова встанет ровно, потому что центр тяжести внизу. На наши лица он ни разу не взглянул…
В десять сорок, сорок пять, пятьдесят пациенты шаркают из палаты на процедуры – ЭШТ, ТТ или ФТ, или в стремные комнатки, где стены всегда разные, а полы неровные. Машины гудят будь здоров.
Все отделение гудит, как прядильная фабрика, на которой мне случилось побывать, когда школьная футбольная команда, где я играл, полетела на школьный чемпионат в Калифорнию. Как-то раз, после хорошего сезона, нашим меценатам снесло крышу от гордости, и они оплатили нам перелет в Калифорнию, на игру в тамошнем школьном чемпионате. Когда мы туда прилетели, нас повезли смотреть местную промышленность. Наш тренер любил всех убеждать, что спорт расширяет кругозор благодаря поездкам на соревнования, и в каждую поездку он гонял нас перед игрой, как стадо овец, то на маслобойню, то на свекольную ферму, то на консервную фабрику. А в Калифорнии это оказалась прядильная фабрика. Когда нас привезли туда, большинство ребят только глянули одним глазом и ушли обратно в автобус играть в карты на чемоданах, но я остался и встал в углу, чтобы не мешать молодым негритянкам бегать туда-сюда вдоль прядильных машин. Я почувствовал себя словно в полусне – так там все гудело, щелкало и стрекотало, и девушки сновали между машинами в каком-то чумовом порядке. Вот почему я остался, когда все ушли, а еще потому, что все это мне чем-то напомнило, как мужчины из нашего племени уезжали из поселка в последнее время работать на плотине, на камнедробилках. Этот одуряющий порядок, лица, одурманенные рутиной… Мне хотелось вернуться в автобус, к остальной команде, но я не мог.
Дело было в начале зимы, и я еще носил куртку – их подарили нашей команде в честь этого чемпионата, – красно-зеленую, с кожаными рукавами и вышитой на спине эмблемой в виде мяча, сообщавшей, какие мы молодцы, – и на нее поглядывали почти все негритянки. Я снял куртку, но они все равно на меня поглядывали. Я тогда был гораздо больше.
Одна из них отошла от станка, глянула туда-сюда по проходу – не видно ли бригадира – и подошла ко мне. Она спросила, будем ли мы играть с этой школой вечером, и сказала, что ее брат полузащитник в той команде. Мы стали болтать о футболе и всяком таком, и мне показалось, что ее лицо как-то размыто, словно между нами туман. А это просто в воздухе летало столько пуха.
Я сказал ей об этом. Сказал, что смотрю на ее лицо, словно туманным утром, как на утиной охоте, и она повела глазами и прыснула в кулак. А потом говорит:
– Ну, и что бы ты делал со мной вдвоем в таком зэкинском местечке, в засаде на уток?
Я сказал, что дал бы ей подержать мое ружье, и все девушки на фабрике захихикали в кулаки. Я и сам не сдержал смеха от такого остроумия. Мы болтали и смеялись, и вдруг она взяла меня за запястья и прильнула всем телом. Ее лицо резко прояснилось, и я увидел, что она чем-то очень напугана.
– Давай, – прошептала она мне, – давай, забери меня, большой. С этой фабрики, с этого города, с этой жизни. Увези меня куда-нибудь, на охоту. Хоть куда-нибудь. А, большой?
Ее красивое лицо, темное и блестящее, было совсем близко. Я разинул рот и не знал, что сказать. Мы так стояли, вплотную, пару секунд, а потом прядильный станок зазвучал как-то странно, и она вернулась к своим обязанностям. Словно невидимый шнур утянул ее за красную цветастую юбку. Ее ногти царапнули меня по рукам, и лицо ее снова окутало облако пуха, размыв черты, сделав их мягкими и текучими, словно тающий шоколад. Она хохотнула и крутанулась, сверкнув желтой ногой из-под юбки. Мигнула мне через плечо и бегом к своей машине, где груда волокна сползала на пол; подхватив ее, она упорхнула по проходу и бросила волокно в приемник, а затем скрылась за углом.
Веретена крутились-вертелись, челноки метались, катушки арканили воздух, между побеленных стен и серо-стальных машин сновали туда-сюда девушки в цветастых юбках, и все пространство фабрики прошивали скользящие белые нити – все это врезалось мне в память, и бывает, что-нибудь в отделении нет-нет да и напомнит.
Да. Такие мои знания. Наше отделение – это фабрика Комбината. Здесь чинят то, что не починят ни соседи, ни школа, ни церковь – только клинике это под силу. Когда в общество возвращается готовый продукт, весь починенный, как новый, а то и лучше нового, Старшая Сестра не нарадуется; нечто, представшее перед ней покореженным, теперь функционирует как положено – предмет гордости ее команды, просто загляденье. Вот он шагает по земле легкой походкой, с застывшей улыбкой, прекрасно вписываясь в уютный пригород, где как раз перекопали улицу для прокладки водопровода. А он смотрит на это и улыбается. Он наконец приведен в надлежащий порядок…
– Надо же, никогда еще не видела, чтобы кто-то так менялся, как Максвелл Тэйбер после больницы; небольшие синяки под глазами, похудел немного, но знаете что? Это новый человек. Боже, до чего дошла американская наука…
И свет у него в полуподвальном окошке горит за полночь, когда он склоняется над спящей женой, двумя дочками, четырех и шести лет, над соседом, с которым играет в боулинг по понедельникам, и вводит им дозу, ведь у него такие проворные пальцы, благодаря элементам отсроченной реакции, установленным техниками; он всех их приведет в надлежащий порядок, как привели его самого. Так это и распространяется.
Когда же у него истечет срок службы, согласно гарантии, город провожает его в последний путь с любовью, и в газете печатают его прошлогоднюю фотографию, на которой он помогает скаутам в День уборки кладбища, а его жена получает письмо от директора школы о том, как Максвелл Уилсон Тэйбер служил примером молодежи «нашего славного сообщества».
Даже бальзамировщики, известные крохоборы, растроганы.
– Ну вот, глянь на него: старый Макс Тэйбер, хороший был малый. Что скажешь, если мы уложим ему волосы дорогим воском и не возьмем наценки с его жены. Да ну, какого лешего, вообще бесплатно сделаем.
Такая успешная выписка неимоверно радует Старшую Сестру, укрепляет авторитет ее команды и всей отрасли в целом. Все рады, когда кого-то выписывают.
Другое дело, когда принимают. Даже самые смирные новые требуют каких-никаких усилий, пока впишутся в систему, а кроме того, никогда не угадаешь, кто из них окажется неподдающимся, способным нарушить заведенный порядок, перевернуть все кверху тормашками и поставить под угрозу работу всего отделения. В каждом подобном случае Старшая Сестра, как я уже объяснял, выходит из себя.
5
Ближе к полудню снова пустили туман, но не на полную; не слишком плотный, но мне приходится серьезно напрягаться, чтобы что-то разглядеть. Через день-другой я перестану напрягаться и уйду в себя, затеряюсь в тумане, как другие хроники, но пока меня интересует этот новый – хочу посмотреть, как он будет держаться на групповой терапии.
Без десяти час туман совершенно рассеивается, и черные ребята говорят острым освободить пол для терапии. Все столы из дневной палаты несут по коридору в старую душевую.
– Очистим пол, – говорит Макмёрфи, как будто пришел на танцульки.
Старшая Сестра смотрит на все это из стеклянной будки. Она уже три часа сидит на одном месте, даже на обед не уходила. Дневную палату освобождают от столов, и в час из кабинета в конце коридора выходит врач и идет к нам, кивает Старшей Сестре за стеклом и садится в свое кресло, слева от двери. После него садятся пациенты, потом подтягиваются младшие сестры и практиканты. Когда все сели, Старшая Сестра встает, подходит к задней стене будки и включает автопилот на стальной панели с ручками и кнопками, чтобы машина работала без нее, после чего выходит в дневную палату с журналом учета и плетеным коробом с бумагами. Форма на ней, даже через полдня на рабочем месте, такая накрахмаленная, что нигде ни складочки; когда она садится, справа от двери, форма хрустит, словно замерзшая холстина.
Как только она села, старый Пит Банчини встает, покачиваясь, и заводит свою шарманку, качая головой и ноя:
– Я устал. О-ох, господи. Ох, как я устал…
Он всегда так делает, когда в отделении появляется кто-то новый. Старшая Сестра шелестит бумагами и не смотрит на Пита.
– Кто-нибудь, сядьте рядом с мистером Банчини, – говорит она. – Уймите его, чтобы мы могли начать собрание.
К нему подходит Билли Биббит. Пит смотрит на Макмёрфи и качает головой из стороны в сторону, словно семафор. Он тридцать лет проработал на железной дороге; теперь он совсем вышел из строя, но все равно действует по инерции.
– Уста-а-ал я, – ноет он, жалобно глядя на Макмёрфи.
– Не переживай, Пит, – говорит Билли и кладет ему веснушчатую руку на колено.
– …Ужасно устал…
– Знаю, Пит, – говорит Билли, похлопывая его по костлявому колену.
И Пит отводит лицо от Макмёрфи, поняв, что никто не станет выслушивать его жалобы. Старшая Сестра снимает наручные часы и, взглянув на настенные, подводит их и кладет на короб, чтобы видеть. Затем берет папку.
– Ну, перейдем к собранию?
Она обводит всех взглядом с застывшей улыбкой, убеждаясь, что никто не намерен мешать ей. Никто не смотрит на нее; все изучают свои ногти. Кроме Макмёрфи. Он уселся в кресло в углу, закинув ногу на ногу, и следит за каждым ее движением. Его рыжую шевелюру все так же венчает мотоциклетная кепка. На коленях у него лежит колода карт, и он подснимает ее одной рукой, шелестя на всю палату. Сестра на секунду задерживает на нем насмешливый взгляд. Все утро она следила, как он играл в покер, и, хотя она не видела денег, подозревала, что он не из тех, кто удовольствуется принятым в отделении правилом играть только на спички. Колода снова шелестит и неожиданно исчезает в его лапище.
Сестра снова смотрит на часы, вынимает из папки лист бумаги и, взглянув на него, возвращает в папку. Затем откладывает папку и берет журнал учета. Но тут принимается кашлять Эллис, который стоит у стены; сестра ждет, пока он затихнет.
– Итак. В конце пятничного собрания… мы обсуждали проблему мистера Хардинга… касательно его молодой жены. Он утверждал, что его жена одарена на редкость выдающимся бюстом и что это не дает ему покоя, поскольку она привлекает внимание других мужчин на улице. – Сестра листает журнал и читает в заложенных местах. – Согласно записям в журнале, оставленным разными пациентами, мистер Хардинг говорил, что она «дает до черта поводов пялиться этим ублюдкам». Также слышали, как он говорил, что сам мог давать ей повод искать сексуального внимания на стороне. Вот что он говорил: «Моя милейшая, но безграмотная женушка считает, что любое слово или жест, не брызжущие мужланской брутальностью, это слово или жест хилого дендизма».
Она еще что-то читает молча и закрывает журнал.
– Он также утверждал, что иногда внушительный бюст жены вызывает у него чувство неполноценности. Что ж. Кто-нибудь желает коснуться этого предмета?
Хардинг закрывает глаза, и все молчат. Макмёрфи смотрит, не хочет ли кто высказаться, затем поднимает руку и щелкает пальцами, как школьник в классе; Сестра кивает ему.
– Мистер… э-э… Макмёрри?
– Чего там коснуться?
– Чего? Коснуться…
– Вы вроде спросили: «Кто-нибудь желает коснуться…»
– Коснуться… предмета, мистер Макмёрри, составляющего проблему мистера Хардинга с его женой.
– А. Я думал, вы имели в виду, коснуться ее… кое-чего.
– Так, что бы вы могли…
И она умолкает. Едва ли не сконфузившись. Кое-кто из острых украдкой усмехается, а Макмёрфи потягивается всем телом, зевает и подмигивает Хардингу. Тогда Сестра, само спокойствие, кладет журнал в короб и, взяв другую папку, открывает и читает:
– Макмёрри, Рэндл Патрик. Переведен властями штата из Пендлтонской исправительной сельскохозяйственной колонии. Для постановки диагноза и возможного лечения. Тридцати пяти лет. Женат не был. Крест «За боевые заслуги» в Корее за организацию побега из коммунистического лагеря для военнопленных. Впоследствии уволен с лишением прав и привилегий за нарушение субординации. После чего привлекался к ответственности за драки на улицах и в питейных заведениях, а также за пьянство, рукоприкладство, общественные беспорядки, неоднократное участие в азартных играх и один раз… за изнасилование.