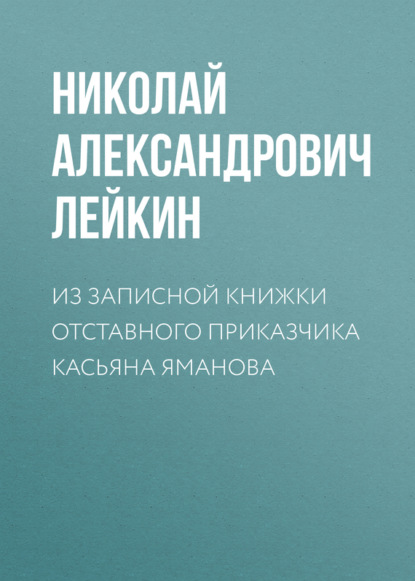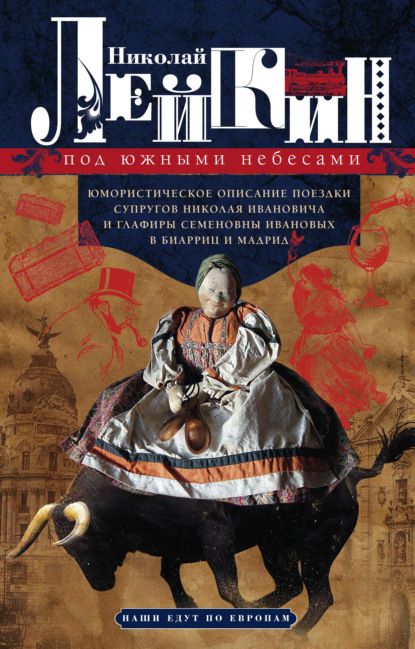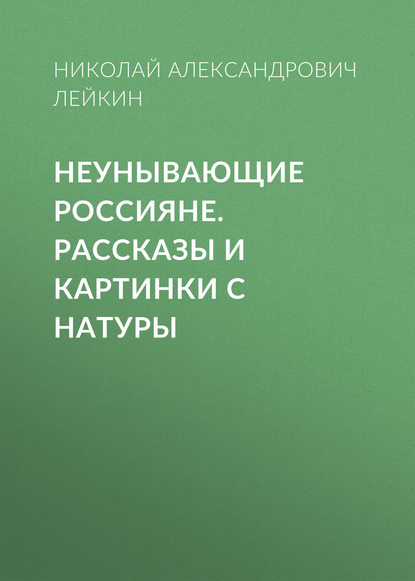Полная версия
Меж трех огней. Роман из актерской жизни
– Хорошо ты, Веруша, устроилась, – сказал Лагорский, рассматривая в гостиной фотографии Малковой в ее лучших ролях, повешенные на стене между венками и лентами. – У меня дома нет ничего подобного. Мы до сих пор живем, как цыгане в стане, как кочевники.
– Так вот и переезжай ко мне, – заговорила Малкова. – Здесь в гостиной и поселишься. Смотри, я нарочно для тебя велела вот этот хозяйский диван новым ситцем обить. Очень уж он был грязен и залит чем-то, так что даже противно было садиться. Явился странствующий по дачам обойщик, я купила ситцу – и вот он обил диван.
– Знаю, знаю. Ты, Веруша, у меня насчет чистоты молодец. Я помню, как ты в Казани следила за моим бельем, как пушила прислугу, когда комнаты были плохо прибраны. У тебя что-то врожденное к чистоте и порядку. Ты любишь украшать свое гнездышко.
– И милости просим в это гнездышко.
– Не могу, родная. Слово дано. Хотя Копровская дефакто теперь мне и не жена, но она все-таки товарищ, а товарища подводить неблагородно. Зачем же я буду наносить ей убытки? Она рассчитывает, что я весь сезон проживу у нее.
– Если любишь меня, то убытки эти можешь ей возместить, – продолжала Малкова. – Ну, заплати ей за комнату за целое лето. Ведь всего-то, я думаю, рублей пятьдесят. Что тебе значит? Будто в карты проиграл. Впрочем, я приду к тебе чай пить и посмотрю, в каких ты отношениях с женой. Мне сдается, что ты все врешь. Если ты сошелся с женой, то тогда я тебя тревожить не стану. Скатертью дорога. Но тогда уж и ко мне прошу ни ногой…
Лагорский нежно обнял Малкову и сказал:
– Веруша, я тебя люблю, я не могу не видеться с тобой. Я должен быть около тебя и целовать эти глазки, эти щечки, этот лобик.
И он поцеловал ее в слегка подведенные глазки, в лобик и щечки. Она улыбнулась.
– Однако ты два года не целовал их. Не целовал, когда служил в Симбирске, не целовал в Нижнем, – проговорила она. – И где ты был еще? В Вологде, что ли?
– В Вологде и в Архангельске два летних сезона, – отвечал он. – Но это ничего не значит. Ты два года была у меня в сердце.
– Два года в сердце, а сам даже не писал мне. Хороша любовь!
– Неправда. Из Симбирска я тебе послал три письма.
– А из Нижнего ничего и из других городов – ничего.
– Из Нижнего я тебе послал 17 сентября поздравление с днем ангела в Ростов-на-Дону. Да ведь и ты не писала.
– Не писала, потому что знала, что ты был с этой связавшись… Как ее? С горничной, которая полезла в актрисы. Ведь Кардеев приезжал к нам из Симбирска и рассказывал.
– Ну, какая же это была связь! Мимолетная. Без таких связей ни один здоровый мужчина быть не может, – сказал в ответ Лагорский.
– А знаешь, она здесь… Эта Настина… – сказала Малкова. – Я видела ее в Петербурге.
– Не знаю, не видал и не слыхал, – соврал Лагорский.
– Вот и к ней я буду тебя ревновать, Васька. Она в труппе «Карфагена» с твоей женой служит. О, она тонкая бестия! Она завлечет тебя, Васька.
– В первый раз слышу, что Настина в «Карфагене» служит, – врал Лагорский. – Странно, что я ее не видел. Но ты, друг Веруша, ничего не бойся. Для тебя нет соперниц. Я весь твой. Не буду лгать, во время нашей разлуки я не страдал по тебе, не убивался, но, когда здесь увидал тебя снова, ты опять зажгла мое сердце и любовь моя к тебе возгорелась с новой силой.
Лагорский опять обнял Малкову и посадил ее рядом с собой на диван. Она засмеялась и, принимая от него поцелуй, бормотала:
– Как ты это говоришь… Какими словами… Будто на сцене, будто из какой-то роли…
– Актер… Ничего не поделаешь. Такая уж наша привычка к красивым словам, – ответил он, поднялся и сказал: – Ну что ж… Давай обедать. Есть я чертовски хочу.
Малкова сняла со стола альбом с серебряной доской – бенефисное подношение, два подсвечника со свечами и стала накрывать ковровую скатерть белою скатертью, крича своей прислуге:
– Груша! Тащи сюда посуду. Я накрываю стол. Подавай обедать! Да прежде редиску и селедку для Василия Севастьяныча! Бутылочка с водкой у меня в спальне.
В дверях показалась опрятно одетая в ситцевое платье пожилая уже горничная, Груша, в белом переднике с кружевами и прошивками, кланяясь Лагорскому, и держала в руках две тарелки с редиской и селедкой, сильно обсыпанной зеленым луком.
Глава V
Пообедав и выпив кофе, Лагорский стал прощаться с Малковой. Та не отпускала.
– Посиди еще… – упрашивала она. – Куда торопиться? Вот мы подышим легким воздухом на балконе… Посмотрим на проходящих… У меня апельсины есть. Поговорим… Напьемся чаю. Я, Вася, с самоваром… Я самовар купила. Полное хозяйство… Что ж, уезжать на зимний сезон, так продать можно.
– Ты у меня запасливая… Ты умница, ты хозяйка… – хвалил он ее и, как ребенка погладив по голове, взял шляпу и все-таки уходил.
Она удерживала его за руку, любовно смотрела ему в глаза и продолжала просить:
– Не уходи… Останься еще со мной.
– Нельзя… Роль учить надо. Уж и так седьмой час, – отвечал он. – Здесь не провинция. Роль надо знать хорошо.
– Вздор… Ты боишься своей жены… И дернуло тебя опять с ней связаться!
– Уверяю тебя еще раз, Веруша, что моя связь ограничивается только квартирой и столом.
– Ну, хочешь, я за тебя внесу ей за квартиру и стол? – спросила Малкова, все еще держа Лагорского за руку.
– Что ты!.. Зачем же это? Но все-таки прощай. Уверяю, что у тебя мне и сидеть приятнее, и уютнее, и веселее, я даже дышу как-то свободнее у тебя, но идти домой все-таки надо. Идти и заняться ролью… Ты знаешь, я не ремесленник. К искусству отношусь серьезно.
– Так ведь у тебя роль с собой. Учи здесь… Поставят самовар, будем пить чай, а ты учи роль. И я буду роль учить. Помнишь, как в Казани, когда мы жили в «Европе».
– В другой раз с удовольствием, но сегодня надо дома, – стоял на своем Лагорский.
– У тебя есть ли самовар? – спросила Малкова.
– Ничего подобного. Копровская моя не такова. Она кипятит воду для чаю и кофею на бензинке. Разве она хозяйка? Разве она запаслива? У ней и десятой доли нет твоих милых качеств. Прощай.
Лагорский обнял и нежно поцеловал ее, уходя кивнул на венки, висевшие на стене и сказал:
– Как сохранились цветы и ленты. Их опять в бенефис подносить можно.
– Зачем же это? С какой стати? Что за фальсификация! Я никогда этого не делаю, – отвечала Малкова.
– Отчего же… Для коллекции, для комплекта… Ведь эти венки все равно тобой заслужены. У меня есть хороший серебряный портсигар с эмалью, и я всякий раз его себе подношу от публики. Для коллекции, для счета подношу.
Лагорский ушел. Она проводила его до лестницы, обвила его шею руками и шепнула:
– Приходи ночевать, Вася!.. Диван этот твой. Я нарочно обила его новым ситцем.
Когда он вышел на улицу, Малкова стояла на балконе и кивала ему, улыбаясь.
– Всего хорошего! Завтра на репетиции увидимся! – крикнул он и сделал жест рукой.
Сделав шагов сто по улице, Лагорский остановился. Он сообразил, что если он будет подходить к своему дому с улицы, то жена его, ожидая его на балконе дачи, может заметить, что он подходит к дому не со стороны театра, а с другой стороны, а он готовился рассказать ей в свое оправдание, что он не пришел к обеду, целую историю, как его задержали в театре.
«Пройду на заднюю улицу и оттуда проберусь к себе на дачу по задворкам», – решил он и юркнул во двор какой-то дачи. Там он нашел калитку, выбрался на другую улицу и уж оттуда проник в свое жилище.
Лагорский не ошибся. Жена его сидела на балконе, ждала его и даже в бинокль смотрела на дорогу, где он должен был показаться. Но он вошел в свою дачу с черного хода, прошел на балкон, подкрался к жене и, шутливо взяв ее за голову, зажал ей руками глаза.
Жена вскрикнула, высвободилась, ударила его по рукам и гневно сказала:
– Что за глупые мужицкие шутки! Где это ты шлялся? Где это ты пропадал? Я сижу голодная и жду тебя к обеду. Плита горит, суп перекипел и воняет уж салом, твоя корюшка, что ты заказал изжарить, высохла, как сухарь… Бесстыдник…
– Не сердись, Надюша… На репетиции долго задержали… – оправдывался Лагорский. – Сегодня первая репетиция. Режиссер этот, Феофан, хочет показать, что он что-то смыслит, поминутно останавливает актеров, требует повторения… Конечно, не премьеров и не меня он останавливал, но пьеса постановочная, много народных сцен. А труппа ужасна… Не актеры, а эфиопы какие-то набраны… Ступить не умеют!
– Но ведь не до семи же часов вас морили! – воскликнула Копровская, хмуря черные брови. – У нас в «Карфагене» репетиция тоже тянулась без конца, но в четвертом часу я уж была дома. Как хочешь, а я уж полчаса тому назад пообедала. Я не могу так долго ждать. У меня даже тошнота сделалась.
– И прекрасно сделала, Наденочек, потому что и я пообедал, – отвечал Лагорский.
Копровская сверкнула глазами.
– Пообедал? – гневно закричала она. – Ну так я и знала! А я здесь сижу голодная, жду, страдаю, жду милого муженька, а он, нажравшись, где-то прохлаждается.
Мерзавец! И отчего ты не прислал домой хоть плотника какого-нибудь из театра или портного сказать, что ты не будешь обедать? Еще корюшку себе заказал! Подлец!
– Наденочек… Прости… Обстоятельство такое вышло. Антрепренер пригласил… Мы пообедали в буфете, – оправдывался Лагорский. – То есть даже, строго говоря, и не обедали, а ели, потому что кухня еще не вполне готова. Супа не было. Раки… шнельклопс… ну, закуски… А я обожаю раков – ну и не мог себе отказать в этом удовольствии… Да и антрепренеру не мог отказать. Ведь с ним целый сезон надо жить, – врал он. – Уж ты, Наденок, не сердись.
Он подошел к жене, хотел ее обнять и поцеловать, но она ударила его по рукам и отвернулась от него, сев на стул.
– Какая ты грозная! Какой у тебя характер! Уж ничего и простить не можешь! – пробормотал Лагорский.
– Потому что я знаю, с кем ты был, с кем ты обедал в ресторане. Никакой тут антрепренер, никакие тут раки не играют роли… Все это пустяки… Я все знаю… Сегодня на репетиции в «Карфагене» мне посторонние люди открыли глаза. Тут женщина…
– Сплетни… Язык у людей без костей…
Лагорский сидел поодаль от жены, скручивал папиросу и радостно думал: «Ничего ты не знаешь, ежели говоришь, что я обедал в ресторане».
Он молча смотрел на жену и сравнивал ее с Малковой. Копровская была женщина лет тридцати пяти, брюнетка с роскошными волосами, в косе которых был воткнут в виде шпильки бронзовый кинжал. Лицо ее с широкими бровями и маленькими усиками, темневшими полоской над верхней губой, было красиво, но имело злое выражение. Она была среднего роста, имела полную фигуру с красивой развитой грудью, хотя и не дошла еще до ожирения. Одета Копровская была неряшливо, в когда-то дорогой шалевый с турецким рисунком капот, но ныне уже весь запятнанный, с отрепанным подолом юбки, а на ногах ее были старые туфли со стоптанными задками.
– Феня! – закричала Копровская кухарке. – Гасите плиту и съедайте все, что у вас есть приготовленного! Барин обедать не будет.
– Вели оставить жареной корюшки мне к вечеру, – заметил жене Лагорский.
– Приказывайте сами, я для вас распоряжаться больше не стану, – отвечала она.
Лагорский сам пошел в кухню. Проходя по комнате, он посмотрел на разбросанные по стульям принадлежности костюма Копровской, на валяющиеся около дивана ее полусапожки, на розовые шелковые чулки, висящие на спинке стула, на шерстяной платок, которым было завешено окно вместо шторы, сравнил жену с Малковой, аккуратность и любовь к порядку Малковой с привычками жены, вздохнул и подумал про жену: «И черт меня дернул опять сойтись с ней!»
Глава VI
Стоял конец апреля. Апрельские сумерки наступали нескоро. Только в десятом часу начало темнеть. Копровская зажгла две свечи в дорожных складных подсвечниках, поставила их перед дорожным зеркалом, помещающимся на простом некрашеном столе, наполовину застланном полотенцем с вышитыми концами, и, присев, стала учить роль перед зеркалом. Лагорский растянулся на продранном клеенчатом диване с валиками и тоже читал роль, подставив к дивану деревянную табуретку со свечкой.
Было холодно на даче, дача не имела печей, кухонная плита согревала комнаты плохо. Оба они кутались. Лагорский надел кожаную охотничью куртку на лисьих бедерках. Копровская была в драповой кофточке, с головой и шеей обернутыми пуховым платком. Она читала роль вслух, бормоча ее вполголоса. Он смотрел в тетрадь и читал про себя. Вдруг она увидела, что в комнате горят три свечки, и закричала:
– Зачем третью свечку зажег! Погаси.
– Как же я буду, душечка, учить роль? – отвечал он. – Ведь темно.
– Ну, зажги четвертую. Не желаю я при трех свечах сидеть в комнате.
– Да если нет четвертого подсвечника.
– Поставь свечку в бутылку! Феня тебе даст бутылку из-под сельтерской воды.
Лагорский крякнул и поднялся с дивана, который скрипнул под ним.
– Очень уж я не люблю такую цыганскую жизнь. И так уж мы живем как на бивуаках, – сказал он. – А тут еще свечка в бутылке. Ни лампы у нас нет, ни самовара…
– Покупай на свои деньги. А я не желаю обзаводиться хозяйством на четыре месяца. Да ведь здесь на севере скоро будет так светло, что и никакого огня не потребуется, – отвечала она.
– А осенью? А в июле и в августе? Теперь у меня денег нет, а как получу жалованье, куплю и лампу, и самовар.
– Ты знай, что я сына возьму из училища на каникулы после экзаменов. На него деньги потребуются. Ему и блузочку сшить надо, и рубашонок, и сапоги…
– И на сына хватит. И наконец, не забывай, что этот сын как мой, так и твой…
– О, я не забываю! Если бы я-то его забыла, то ему пришлось бы быть уличным мальчишкой и ходить с рукой… – выговорила Копровская и спросила: – Ты сколько на него прислал мне в прошлом и в позапрошлом году? Ну-ка, посчитай. Сколько ты ему прислал за те четыре года, которые мы жили, разъехавшись?
– Посылал столько, сколько нужно было платить за его содержание и учение в училище, – сказал Лагорский.
– Врешь. Ты даже и на это полностью не присылал. А два года он пробыл при мне. Его и перевозить нужно было с места на место, и кормить, и одевать, и приготовить для поступления в училище.
– Триста или двести пятьдесят рублей в год ты на него всегда от меня имела. Только раз я был не аккуратен, когда летом в Ставрополе в товариществе служил.
– Так разве он мне триста рублей в год стоит? Наконец, ты забываешь, что у нас есть маленькая дочка.
– Дочь у бабушки. Ей хорошо.
– Однако бабушка-то эта с моей стороны, а не с твоей. Моя мать, а не твоя. Много ли ты на дочь посылал?
– Посылал кое-что на лакомство и наряды, а не посылал больше, потому что Анюточке там и так хорошо. Твоя мать получает пенсию, какую ни на есть. У ней есть домишко в Калязине.
– Бездоходная избушка на курьих ножках, а ты говоришь «дом».
– Однако, все-таки, она в нем сама живет.
– Ну, все равно. А я на Анютку уж каждый месяц не менее десяти рублей посылаю.
– И я посылал ей из Нижнего, когда играл на ярмарке, шелковое одеяло и туфельки. Канаусу послал.
– Ну да что об этом говорить! – перебила она его. – Ты отец-то знаешь какой? Тебя как отца-то черту подарить, да и то незнакомому, чтоб назад не принес. Да… Нечего морщиться-то! Да и то сказать, где же тебе быть хорошим отцом для своих законных детей, если у тебя в каждом городе, куда ты приедешь, заводится новая семья. Ведь и на тех детей надо что-нибудь давать. Ведь и те матери что-нибудь требуют на детей. И им дать надо. Ты петух какой-то… Прямо петушишка.
Копровская ворчала, а Лагорский пыжился и молчал. Он чувствовал некоторую справедливость в ее словах, но в то же время думал про себя: «И на кой черт я опять сошелся с ней?»
Горничная Феня, молоденькая, курносенькая девушка, с заспанными уже глазами, принесла ему свечку, поставленную в бутылку. Он зажег свечку, поставил ее на табуретку и лег опять на диван, продолжая читать роль.
В комнате было как бы шмелиное жужжание. Копровская читала вслух, вполголоса, по временам взглядывала в зеркало и играла лицом. Дабы заглушить ее говор, Лагорский сам стал бормотать. Так длилось с четверть часа.
Наконец он проговорил:
– Хорошо бы чаю напиться теперь.
– Ох, опять зажигать бензинку! – вздохнула Копровская. – Мне чаю не хочется. А ты пей сельтерскую воду.
– В такую-то холодину? Да что ты? А бензинку может и Феня зажечь и согреть на ней воду.
– Надо же и девушке дать покой. Она спать хочет. Скоро десять часов.
Но Лагорский уж закричал горничной:
– Феня! Зажгите, пожалуйста, бензинку, скипятите воду и заварите чай! Мне пить хочется. Надо за булками послать, – сказал он жене. – У нас сливочного масла нет?
– Откуда же оно возьмется! Что было сегодня утром, мы съели, – отвечала Копровская.
– Надо и за маслом послать. Да кусок колбасы или ветчины купить, что ли?
– Для тебя есть там корюшка жареная. Хлеб черный есть.
– Этого мало. У меня аппетит зверский.
– Ну так и иди сам в булочную и колбасную. А Фене некогда. Она должна за бензинкой смотреть и воду кипятить. Да и наработалась уж она сегодня.
– Да я раздевшись и в туфлях.
– Оденешь сапоги-то, что за барство такое! И боже мой, как ты обленился! – ворчала Копровская.
Лагорский начал надевать сапоги, надев их, напялил на себя пальто и, покрыв голову шляпой, отправился за покупками. Минут через десять он вернулся со свертками с едой и с букетом ландышей и поднес его Копровской.
– Сейчас на улице у мальчика купил, – сказал он. Копровская улыбнулась, взявши букетик, и проговорила:
– Как это ты надумался сделать жене приятное? На тебя не похоже. Ведь это первый подарок от тебя после того, как мы сошлись вновь.
– А чечунчи-то я тебе пять аршин на кофточку презентовал, которая у меня от Нижнего Новгорода осталась?
– Так ведь то Васютке на костюм пойдет, когда он приедет к нам на каникулы.
Лагорский развертывал из бумаги колбасу, булки и кусочек сливочного масла.
– У нас есть тарелки? Дай тарелочки, чтоб разложить все это, – говорил он.
– Зачем? Потом мыть надо тарелки. Пускай так на бумаге лежит все, – отвечала она.
– Ах, как не нравится мне эта бивуачная, лагерная жизнь! – вздохнул он.
– Ну так найми себе лакея. А ножик для колбасы и для масла есть. Вот возьми…
Она подала ему складной ножик.
Вошла Феня, внесла два чайника с кипятком и заваренным чаем и три тарелки.
– И тарелочки принесла, милая? Молодец, девица! Приучайся всегда к порядку, – сказал, улыбаясь ей, Лагорский и потрепал ее по плечу и по спине.
Копровская сверкнула глазами, но ничего не сказала.
Лагорский начал есть. Он ел с большим аппетитом. Подсела к столу и Копровская и тоже пила чай и ела колбасу на булке с маслом. Через минуту она тихо сказала:
– Ты ужасный петушишка, Василий. Ведь вот я и за мою Феню боюсь. Ты думаешь, что я не вижу, какими плотоядными глазами ты на нее смотришь? А она девчонка молоденькая, глупая. Нельзя при тебе молодых горничных держать.
Лагорский только покачал головой и проговорил:
– Ах, ревнивица! Знаешь, ведь уж это ужас что такое! С тех пор как мы во второй раз сошлись, ты стала вдвое ревнивее.
Глава VII
Наступал май. Приближалось открытие спектаклей в обоих садовых театрах, как в театре сада «Сан-Суси», где служили в труппе Лагорский с Малковой, так и в театре сада «Карфаген», где имела ангажемент Копровская. Спектакли в «Карфагене» должны были начаться 1 мая старой трехактной легкой переводной комедией.
В театре «Сан-Суси» открытие спектаклей было назначено днем позднее. Ставили «Каширскую старину» с Малковой в роли Марьицы и с Лагорским в роли Василья. Новинки в обоих театрах были объявлены в афишах, но их приберегали к следующим спектаклям. Репетиции шли в театрах усиленно: утром и вечером.
На репетициях «Каширской старины» Лагорский все брюзжал и говорил всем:
– Чувствую, что не подхожу я теперь к роли Василья. Тяжеловат я для молодого парня, и мои годы ушли, но взялся для того только, чтобы наш любовник Черкесов эту роль не погубил.
– Чеченцев, Василий Севастьяныч, а не Черкесов… – подсказал ему Тальников.
– Э, все равно! Один черт! Так вот взял из-за того, чтобы он роль не погубил. Не играй я – ему бы Василий достался. А каково бы Марьице-то, Малковой-то, было играть с этим Лезгинцевым! Ведь у ней все лучшие места с ним.
На предпоследней репетиции Малкова, как только пришла в театр, сейчас же печально сказала Лагорскому:
– А я к своему завтрашнему дебюту с сюрпризом.
– Что такое? – спросил Лагорский, видя ее встревоженное лицо.
– Муж приехал.
– Ну-у-у? Зачем? Что это ему понадобилось?
Она слезливо заморгала красивыми глазами и отвечала:
– Лишней срывки. Лишней мзды захотел. У меня конец срока паспорту. Ведь он всегда мне только на один год отдельный вид на жительство высылает. Обыкновенно бывало так: я посылаю ему сто рублей на табак, на выпивку, а он шлет мне паспорт. И так длится уже несколько лет. Но нынче он из письма моего узнал, что я играю в Петербурге, стало быть, петербургская актриса и, по его понятиям, значит, дороже стала, ну и захотел за паспорт больше. Живет он в Новгородской губернии, приехать сюда в Петербург стоит недорого, несколько часов езды – вот он и приехал. Вчера под вечер вдруг является ко мне. Я испугалась, задрожала, со мной чуть дурно не сделалось. Я, Вася, хотела уж Грушу за тобой посылать, но он недолго просидел и не особенно дерзничал. Это ужас что такое! – пожала Малкова плечами. – Сколько лет я от него освободиться не могу? Развод… Хлопотать о разводе? Но ведь это бог знает сколько денег стоит. Капитал… А я всегда бедна как церковная мышь… И вот я всю ночь не спала. Сегодня вся дрожу… Каково завтра играть ответственную роль!
Лагорский оттопырил нижнюю губу и, покачав головой, спросил:
– Сколько же он хочет за паспорт?
– Ужас сколько! Триста рублей просит. «Петербург, – говорит, – даст тебе больше, чем провинция, должна ты и со мной соответственно делиться».
– Да, это куш. Это много.
– Еще бы… сто рублей я ему скопила и послала. А теперь еще двести подавай, – чуть не плача говорила Малкова. – И сто-то рублей с каким трудом и скопила! Зимой мы играли на марки в товариществе, и я многого недополучила. Ах, это ужасно! Ну откуда я возьму? Ты, Василий, сегодня вечером свободен. Съезди к нему и поторгуйся. Он остановился где-то в Гончарной, в номерах… Съездишь?
– Как же я могу сегодня съездить, если сегодня вечером у жены первый спектакль! – воскликнул Лагорский.
– Опять жена? Но ведь это же, наконец, несносно, – раздраженно проговорила Малкова. – Сам же ты уверяешь, что у тебя к жене только квартирные отношения, а теперь и первый спектакль, и все такое!.. Не будешь ли ты еще ей подносить букет?
– Зачем букет? С какой стати? Но если и по-товарищески, то должен же я посмотреть, как ее примут, какой она будет иметь успех у здешней публики.
– Брось. Что тебе до ее успеха, если вы окончательно разошлись! И наконец, с женой твоей ничего не случится неприятного, если ты ее не посмотришь в первый спектакль. А я… Ну что же буду делать, если муж заупрямится и не выдаст мне паспорта! Поезжай, Василий, – упрашивала Лагорского Малкова.
– Сегодня не могу. Решительно не могу. С женой мы разошлись не ссорясь, и она все-таки мне товарищ. А ты знаешь, я всегда за товарищество.
– Василий! Во имя наших отношений. Во имя наших детей… Съезди к нему сегодня… Мне хочется, чтоб уж сегодня покончить. Поторгуйся с ним и покончи. Мне хочется, чтобы уж во время завтрашнего спектакля мне быть спокойной и играть без тревоги. Потешь меня, Василий…
Малкова взяла Лагорского за обе руки.
– Дурочка моя, неудобно… – ласково проговорил Лагорский. – Я завтра съезжу.
– Как ты можешь съездить завтра, если завтра утром у нас репетиция, а вечером спектакль.
– Между репетицией и спектаклем съезжу. Ведь это же не в Китай, а в Гончарную съездить. Я знаю, где эта Гончарная. Съезжу и переговорю с ним. А ты не тревожься. Конечно же, муж твой заломил и уступит. Съезжу завтра. Что мне такое наш спектакль? Пьеса «Каширская старина» – старая пьеса, десятки раз игранная.
– Ах, Василий! – вздохнула Малкова. – Мне твоя жена не дает покоя. Все о жене… Жена у тебя поминутно на языке… Жена твоя… паспорт… мой муж… Ну как тут играть, если дух неспокоен!
– Съезжу, съезжу завтра. А сегодня вечером мы с тобой увидимся в спектакле в «Карфагене», переговорим и выработаем план действий против твоего мужа. Я забыл… Что он такое у тебя? Какое его звание? Как ты по паспорту?..
– Жена отставного подпоручика.
– Ну, чин не особенно важный. Что, он служит теперь где-нибудь? – расспрашивал Лагорский.
– Вчера он мне сказал, что он теперь волостным писарем, но переходит письмоводителем к земскому начальнику. Ах, всем он был, но нигде не уживается! Служил и на железной дороге, служил и при элеваторе каком-то, был управляющим в имении. Он и в Петербурге кем-то служил…