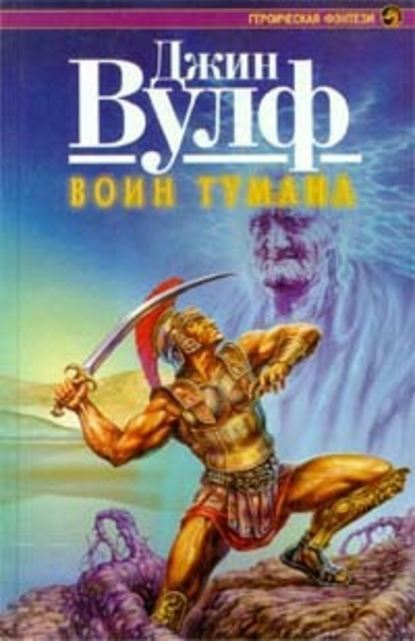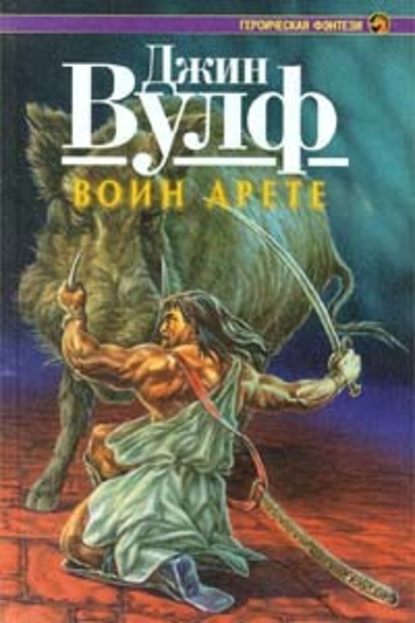Полная версия
Покой
– Она спит.
– Хочешь кинуть взгляд, что принес Ник?
Я кивнул.
– Ну, твой подарок я не покажу, а вот на остальные, думаю, поглядеть стоит. Итак, давай посмотрим.
Он поднялся из кресла: высокий, в темной одежде; на подбородке торчат жесткие черные волоски, словно столбики забора, которые обмакнули в креозот. Опираясь на трость, дедушка присел вместе со мной возле елки.
– Вот это твой подарок, – он показал мне тяжелый прямоугольный пакет с примятым бантом. – И еще этот. – Коробочка, в которой что-то дребезжало. – Тебе понравится. Ну, я надеюсь, что понравится.
– А можно сейчас открыть?
Дедушка покачал головой.
– Дождись завтрака. Теперь смотри сюда. – Он взял большую и тяжелую коробку, в которой что-то булькало, когда ее наклоняли. – Это туалетная вода для Мэб. А вот здесь… – Коробочка поменьше, перевязанная красной лентой. – Подожди чуток… – Он аккуратно снял ленту, и коробочка приоткрылась, словно раковина из синей кожи. – Это для твоей мамули. Знаешь, как такое называется? Жемчуг. – Он поднял нить, чтобы я полюбовался ею в сиянии свечей. – Все как на подбор, одинаковые. А сзади серебряный замочек с бриллиантами.
Я кивнул, впечатленный: мама уже донесла до меня важность своей шкатулки для драгоценностей, и я принял мудрое решение не прикасаться к священному сокровищу даже кончиком пальца.
– По-твоему, они ярко блестят? – спросил дедушка. – Дождись, пока она их увидит, и посмотри в ее глаза. Когда Ванти покинула этот мир, я взял все, что мы не отправили вместе с нею в могилу, и поделил между Беллой и Деллой. Так-то я многое повидал, но среди тех украшений не было ничего и вполовину столь изысканного – я ей такого не дарил, от матушки она такого не получила. А теперь ступай-ка в постель.
И словно по волшебству – возможно, это оно и было, поскольку я верю в волшебную суть Америки и в то, что мы, канувшие в Лету американцы, некогда были обитающим в нем волшебным народом, ныне ожидающим возможности предстать перед непостижимым грядущим поколением, как безымянные племена домикенской эпохи предстали перед греками; только дайте сигнал, и мы начнем шнырять, играя на дудочке, в еще не выросших рощах, а женщины наши в облике ламий поселятся среди розово-красных холмов, руин Чикаго и Индианаполиса, в то время как кроны деревьев поднимутся выше сто двадцать пятого этажа, – я снова оказался в постели, и старый дом покачивался в тишине, как будто привязанный к вселенной единственной нитью, свитой из печного дыма.
На следующее утро я проснулся в объятиях матери, мое лицо было холодным, но все остальное – теплым. Мы отнесли наши вещи на кухню и оделись там, обнаружив, что Мэб уже встала, готовит и греет воду, чтобы дед мог срезать щетину на подбородке своей большой бритвой; он лишь раз в неделю брился таким образом, но в Рождество, великий день, собирался сделать исключение. Она дала мне сахарное печенье с огромной изюминой посередине, чтобы заморить червячка, пока не готовы овсянка, ветчина и яйца, холодное молоко из примыкающего к заднему крыльцу «ледника», кофе – оказалось, и мне по традиции полагалась порция, чего никогда не случалось дома, – а также печенье и домашние пончики. Я, конечно, охотнее заглянул бы под елку, но об этом – как объяснила мама, согласно правилам дома – не могло быть и речи. Сначала завтрак. Этому покойная и мною забытая бабушка Ванти суровой рукой учила мою маму и ее сестру на протяжении всего их детства; и этому она и ее отец были полны решимости научить меня, хотя я всерьез подозревал, что в моем чулке найдутся апельсины (которые я всегда любил) и орехи, которые оказались бы куда лучшим перекусом, чем любое сахарное печенье. Мама несколько раз наведывалась в гостиную в промежутках между попытками помочь Мэб (такое же подобие помощи она оказывала Ханне дома) с приготовлением еды, но при этом клялась, что не ходила дальше двери; а мне даже не разрешили покидать кухню. Дед спустился вниз и сбрил щетину вокруг бороды в углу, где висело зеркало, – я впервые заметил, что он ниже ростом, чем мой отец. Он не обращал внимания на женщин, пока не покончил с этим занятием, а потом сел во главе стола, и мама сразу же налила ему кофе.
– Самое холодное Рождество на моей памяти, – сказала Мэб. – Снег на крыльце вот такой глубокий. – Она сделала преувеличенный жест, расставив руки на три-четыре фута. – Полагаю, нас заметет.
– Глупости говоришь, Мэб, – произнёс дедушка.
От его слов она улыбнулась, на пухлых щеках появились ямочки; она запустила пальцы, слегка влажные от разбитых яиц, в свои волосы цвета масла.
– Ну чего вы так, мистер Эллиот!
– К полудню все пройдет, – встряла мама. – Какая жалость. Снег такой красивый.
Дед сказал:
– Послушал бы я твои похвалы снегу, если бы тебе пришлось топать по нему, чтобы накидать сена лошадям.
Мэб пихнула маму локтем.
– Держу пари, вы бы хотели, чтобы мисс Белла была здесь! Вы бы с ней пуляли в него снежками!
– А я и так могу, – заявила мама. – Попрошу Дена помочь мне, если вы не захотите.
– О, мне нельзя, – сказала Мэб и хихикнула.
Дедушка фыркнул.
– Ишь, разбегалась кобылка, – пробормотал он, обращаясь ко мне, но я не понял смысла.
Мы позавтракали – взрослые ели с убийственной медлительностью, – а затем гурьбой отправились в гостиную. Как я и предполагал, там были апельсины и орехи. Конфеты. Пара подтяжек для дедушки и коробка с цветными платками (три штуки). Для меня – увесистая книга в зеленом коленкоровом переплете с ярко раскрашенной картинкой: русалка в стиле ар-нуво, более грациозная и более морская, чем любая мокрая девушка, которую я видел с тех пор, томно жестикулирующая кораблю эпохи позднего Средневековья, управляемому викингами, – на первой же внутренней иллюстрации он утонул, а иллюстраций было множество, похожих, столь же прекрасных – а иногда даже лучше, – как и первая, рассеянных по тексту, напечатанному готическим шрифтом и часто непонятному, но для меня совершенно завораживающему; и еще нож. Не сомневаюсь, именно такой нож дед выбрал бы для себя самого, мужской нож, хотя на вделанной в бок пластинке и было написано «Бойскаут». В закрытом виде он оказался длиннее моей ладони, и в дополнение к огромному клинку, напоминающему по форме лезвие копья, который, будучи раскрытым (я не смог его выдвинуть без помощи деда), удерживался в таком положении медной плоской пружиной, в нем были штопор и отвертка, открывалка для бутылок, лезвие поменьше – как предупредил дед, очень острое, – шило и инструмент для удаления гравия из копыт лошадей – кажется, он называется «копытный крючок». В отличие от лезвий мальчишеских ножей, которые изготавливали потом, все эти части сделали из высокоуглеродистой стали, а потому они ржавели, если их не смазывать маслом, но хорошо держали заточку, в отличие от броских и эффектных клинков.
Мама получила большую бутылку туалетной воды, а Мэб – нитку жемчуга, отчего сначала заплясала от радости, потом заплакала, несколько раз поцеловала дедушку и, наконец, выбежала из комнаты наверх, в свою спальню (мы слышали ее топот по ступенькам, быстрый и сбивчивый, словно у загулявшего бражника, спасающегося от полиции), где пробыла почти полдня.
В детстве я верил, что моя мать, из-за той неоспоримой щедрости, которую дети так легко обнаруживают в хорошем родителе, обменялась подарками с Мэб. Незадолго до поступления в колледж я понял (как мне показалось), что дед, наверное, сам поменял коробки – не после нашего разговора накануне вечером, а позже, в качестве платы за какую-то сексуальную услугу или в надежде получить ее, когда ночью он лежал один в большой спальне на первом этаже.
А теперь я стал старше – наверное, мне столько же лет, сколько было ему, – и вернулся к своему детскому мнению. Сдается мне, старики таких подарков не делают; интересно, что подумали в городе, и разрешил ли он ей оставить жемчуг, похоронили ли ее в этом ожерелье?
– Надо было замуровать шкуру в фундаменте.
И Барбара Блэк, мать Бобби:
– Ее хотели показать школьникам.
Но теперь-то жемчуга никто не видит, по крайней мере на ней; она уже мертва, эта пышнотелая, рубенсовская женщина. Когда моя мать умерла, я нашел среди ее вещей фотографию Мэб, стоящей рядом с моим сидящим дедушкой. Она показалась мне похожей на сиделку, да, ту самую разновидность сиделок, которых выбирают, чтобы угождали старику, хихикали и надували губки, пока он не примет лекарство, – словом, этакое ходячее сожаление. Не могу вообразить, чем она сама могла болеть в конце жизни и кто о ней заботился.
Помню, после смерти матери мне все время казалось, что та ушла слишком рано. А теперь я бросаю взгляд в прошлое и ощущаю, что мама прожила целые эпохи – как будто ей была отмерена вечность. (Может, где-то в ином месте она все еще живет.) Теперь уже слишком поздно что-то менять, но иногда мне приходит в голову, что в наших летописях с каждым новым поколением нужно указывать, как сильно мы удалились от крайне важных вещей. Когда умер последний очевидец какого-нибудь события или какое-нибудь историческое лицо; а потом – когда умер последний из тех, кто был с ними знаком; и так далее. Но сперва мы бы попросили первого человека описать то, что он видел и с чем соприкасался, а после того, как все они покинут этот мир, мы бы прочитали описание публично, чтобы понять, значит ли оно для нас хоть что-то – и если нет, то цепь связанных жизней считалась бы оборванной. Принцесса Пенной Воды, расскажи нам о том, как ты повидала индейцев.
– Ой, да к чему тебе эта старая байка. Ты ее слышал сотни раз.
– Ну пожалуйста, Ханна, расскажи, как папочка повел тебя к индейцам.
– Господи, тебя послушать, так мы на ярмарку сходили. Это была никакая не ярмарка. Ему просто надо было заключить с ними какую-то сделку, и он боялся, что кто-нибудь придет; в любом случае, я была слишком мала, чтобы оставаться одной. Это случилось сразу после смерти мамы, еще до рождения Мэри. До того, как появилась служанка, ирландка, – до того, как он вообще женился на той, другой.
Наверное, это прозвучит ужасно, Денни, но вот я вспоминаю те дни и думаю, что они были в моей жизни самыми хорошими – только не подумай, что я не тосковала по матери. Просто под конец все обернулось таким кошмаром, она была так больна, а я сильно переживала, но ничего не могла сделать, потому что была совсем крохой. И вот она отмучилась. Он спал рядом с ней, чтобы помочь, если ей что-нибудь понадобится, а она, наверное, скончалась ночью, и он не разбудил меня. Он сколотил для нее ящик – деревянными гвоздями, а не железными, теми мы пользовались редко, их делали кузнецы, и стоили они кучу денег. Но у него был бур, и он просверлил отверстия в досках, потом выстругал колышки и вбил их большим молотком, который смастерил сам. Боек тоже был деревянный. Матери он объяснил, что сооружает курятник, и она ответила – вот и славно, хотелось бы увидеть яйца. Он все твердил, что купит цыплят, когда доделает.
Тем утром я проснулась, когда он прибивал крышку – удары меня и разбудили. Знаешь, Денни, сколько раз я тебе это рассказывала, а никогда не вспоминала, но… все верно, именно это меня разбудило – стук молотка. Наверное, я не задумывалась, даже в тот день, ведь когда села в кроватке и посмотрела на него, он уже все закончил и просто стоял с киянкой в руке. Позже сказал мне, что колышки сделал из вишни, а доски – из сосны. У нас за домом росло вишневое дерево – не такое, чтобы пироги печь, а дичка: ее еще называют розовкой или темнушкой. Мама ни за что не позволила бы ему срубить вишню, потому что в цвету она была очень красивая, и он не срубил, даже после ее смерти. Просто колышков нарезал, потому что веточки были прямые, а древесина – твердая. А еще делал из вишни трубки; табак тоже выращивал сам. Чаши вырезал из кукурузных початков, и снаружи они оставались мягкими.
– Ханна, я могу сделать так, что ты скажешь индейское слово.
– Как? А, понятно. Ну ты и проныра[16]. Я знаю похожую историю… ох, она тебе точно понравится. Эту историю рассказывала та ирландская служанка, которую мы наняли, когда они поженились. Ну, она-то рассказывала ее интереснее: у нас тогда не было ни соседей, ни телефона – ничего, что есть сейчас. Мимо нашей фермы, у подножия холма, шла дорога, но иногда проходила целая неделя, прежде чем кто-нибудь появлялся на этой дороге…
В общем, жил-был бедный парень по имени Джек, и любил он девушку по имени Молли; однако отец Молли не хотел, чтобы они поженились, потому что у Джека не было за душой ничего, кроме работящих рук и улыбки; и все же он был хороший, сильный парень, ничего не боялся, и все в округе его любили. Отец Молли строил козни, интриговал, чтобы избавиться от дочкиного жениха, но бросить его в колодец боялся – Джек был слишком силен, и к тому же за такое и повесить могут. Ну так вот, ферма у него была большущая, с всяко-разной землей.
– Кэти, это взаправдашняя история?
– Слово даю, милая. И…
– Это случилось в Ирландии, Кэт?
– Ой, нетушки, мадама Милл. Это было в Масси-Чусетсе, там мой отец обувку тачал.
Были на той ферме луга и леса, поля для пахоты и поля для сена – что только не придумаешь, и к тому же земля была богатая на загляденье; но также попадались каменистые участки, и лощины среди зарослей, куда из года в год не проникал ни единый лучик солнца. Требовался целый день, чтобы пересечь такие обширные владения, и для сева нанимали десять человек, а для сбора урожая – сорок.
Так вот, в лесу, вдали от посторонних глаз, стоял каменный сарай – и, казалось бы, такой сарай можно для чего-нибудь приспособить, да? Но нет, стоял он пустой, как маслобойня по воскресеньям, из года в год. А причина заключалась в том, что там водился призрак, и не какой-нибудь, а банши – самое страшное привидение из всех, и я нередко слыхала, когда болтали про изгнание привидений, что можно избавиться от любого неупокоенного духа, кроме этого. Ежели сжечь дом – или какое иное строение – прямо с банши внутри, та останется на пепелище; и ни святейший из людей, ни даже сам епископ не сможет прогнать ее насовсем; проще избавиться от лендлорда, чем от банши. Выглядят они как уродливые старухи с длинными загребущими пальцами и зубищами, что шипы на ветвях терновника; банши – призрак повивальной бабки, которая убила младенца, потому что кто-то отсыпал ей золотишка и попросил избавить от неугодного наследника; и не знать ей отдыха до той поры, покуда земля, где она обитает, не уйдет под воду.
Каждую ночь, стоило луне заглянуть в окно, приходила банши. Если в сарае стояли коровы, она доила их и выливала молоко на землю; а если лошади – гоняла галопом всю ночь или пила кровь, так что утром те валились с ног. И если человек пытался остаться в сарае на всю ночь, она его хватала и душила, пока он не называл чье-то имя – и названный, кем бы он ни был, умирал в ту же ночь, а еще она рвала одежду несчастного в лохмотья и избивала дышлом от фургона, пока тело не превращалось в сплошной синяк, чтобы все знали, чьих рук это дело.
– Любой мог умереть, Кэти? Так ведь плохой дядя мог просто пойти в сарай и…
– Ну, так говорили. Он…
– …встретив банши, назвать имя дочкиного жениха?
– Он слишком ее боялся. Нет; и все же он думал и размышлял, мысли его так и метались, пока наконец ему не пришел на ум способ избавиться от Джека, который вечно беспокоил его из-за Молли, не давая сидеть себе спокойненько у собственного очага. Ты и сама догадалась, сомнений нет. Даже малышка Мэри в колыбели поняла, что к чему. Он сказал Джеку: проведи всю ночь в сарае и сделай так, чтобы тебя оттуда не вышвырнули – если получится, будет тебе и Молли, и половина фермы в придачу.
Пошел Джек в сарай и сел там, прислонившись к стене, наблюдая за луной в окошке, и ни разу не сомкнул глаз. В положенное время во мраке ночи появилось крохотное пятнышко лунного света, и едва это случилось, как кто-то постучал в дверь. Тук… тук… тук.
– Кэт, не стучи так по столу – ребенка разбудишь.
– Ну, Джек ничуточки не испугался и дерзко крикнул: «Кто бы ты ни был, входи, но дверь закрой – тут и так сквозняк». Дверь медленно приоткрылась, и вошла банши. Вместо платья на ней был саван, а походка у нее была вот такая. «Джек, ежели ты не возражаешь, я оставлю дверь открытой, – сказала гостья, – все равно она тебе скоро пригодится». У Джека на языке вертелись слова, дескать, есть у него Молли, и он здесь останется любой ценой, пока не засияет солнце, потому что очень ее любит, но он и пикнуть не успел, как банши вцепилась ему в глотку и завопила: «Имя! Имя!» Ибо привидения эти все время жаждут заполучить живую душу, но не могут, пока не узнают чье-то истинное имя, а люди все и вся забывают, когда их охватывает смертный страх. Да Джек и не собирался никого называть, даже если она его совсем задушит, но банши все колотила бедолагу об стену, и поскольку держала его за шею, язык у парня вывалился аж до пряжки от ремня, и он так одурел от того, как его душили и лупили, что чуть было не позвал Молли; потом пришло ему на ум назвать имя ее отца, но это же был его будущий тесть, если они с любимой когда-нибудь поженятся, а с родней так не поступают, и потому, чтобы избавиться от банши, он возьми да и назови имя самого подлого человека, о каком вспомнил, – человек тот грабил всех подряд, беднякам не давал ни пенни, и тогда тварь отпустила Джека; но перед этим выдернула доску из конторки, которая стояла в сарае, и так отделала, что он шагу ступить не мог, да и вышвырнула за дверь – там его поутру нашли, отец Молли принес бутылку зелья из ведьмина ореха[17], но сказал, что больше не желает его знать.
Думаете, это конец, а вот и нет. Мало-помалу Джеку стало лучше, он по-прежнему любил Молли и решил попытаться еще раз; ее отец этого не хотел, но девушка плакала и все такое, так что в конце концов фермер разрешил – и тогда Молли снова заплакала, думая, что на этот раз Джека уж точно убьют. Ждал он, ждал, как и в первый раз, и пришла банши, которой Джек назвал имя одной старой леди, которая все равно должна была скоро умереть, – и привидение поколотило его так сильно, что он чуть не помер.
Думаете, это конец, а вот и нет. В следующий раз Джек пообещал отцу Молли, что если не продержится в сарае до рассвета – банши там или не банши, – то уедет в Техас. Явилось привидение, значится, как и в прошлые два раза, только выглядело уродливее и крупнее. Когти у него были длинные, как вязальные спицы, и Джек подумал, что оно сейчас выцарапает ему глаза, поэтому поднял руку вот так, чтобы оно не могло его ослепить, и когда он это сделал, банши схватила его за шею. Ну что ж, боролись они и сражались – то ли как коты из Килкенни, то ли как святой Брендан с дьяволом. В конце концов Джек понял, что ему придется сказать чье-то имя, и назвал отца Молли, и можно подумать, что на этом злому старику придет конец, однако Джек успел заметить, что после того, как он кого-то называл, всегда возникала небольшая заминка, пока банши искала, чем бы его отдубасить. Стоило ей разжать хватку, как он сам схватил ее за шею! «Ну вот, – сказал Джек, – ты попалась. Выплюнь-ка имя, которое я тебе отдал, или я сломаю твой мерзкий хребет, как прутик от метлы!» И она подчинилась. Кашлянула пару раз и выхаркнула имя Моллиного отца – то шлепнулось на пол сарая и осталось там лежать, ужасно испоганенное после того, как побывало внутри привидения. «Теперь отпусти меня, – сказала банши Джеку, – я вернула тебе то, что получила сегодня ночью, а мертвецам воскреснуть не суждено». «Не суждено, – согласился Джек, – но будут другие, и младенец в колыбели, и старик, что коротает вечность, сидя у камина в углу. Слыхал я, что банши обладают даром предвидения». «Что ж, это так, – сказала она, – ежели ты чуток ослабишь хватку на моей несчастной шее, я тебе про будущее все-все поведаю». «Держи карман шире», – сказал Джек и принялся ее лупить, словно пыль из ковра выбивал. А потом и говорит: «Трижды ты спрашивала меня, кто умрет, а я один раз спрошу тебя, кто родится». «Антихрист, – прошипела банши, что твоя змеюка, – и быть тебе его отцом».
– Не богохульствуй, Кэт.
– Едва последнее слово слетело с ее губ, взорвалась она, как бочка с порохом, и полетел бедняга Джек кувырком. Когда очухался, банши уже не было, и с той поры никто ее не видел, а когда пришли люди утром к сараю, то там сидел Джек на точильном камне и ковырял в зубах щепочкой. Только пришел не отец Молли: после того, как банши проглотила его имя, тот слег, а через год помер. Ну, Джек и Молли поженились в церкви, но он построил себе маленький домик рядом с ее большим, и там живет, и теперь они оба старые, и детей у них нет.
– А банши потом вернулась, Кэти?
– И след простыл, только вот скоту в том сарае живется плохо, Джек в основном хранит там чуток сена, и оно вечно гниет. Молли уже старуха, и говорят, что с виду она вылитая банши.
– Довольно, Кэт. Что-то ты хватила лишку. Уложи Ханну, а я займусь Мэри.
– Иди-ка сюда, зайка моя, снимай платьице и сделай так, чтобы я увидела твое милое личико, потому что прямо сейчас по нему размазана половина твоего ужина.
– Ты мне делаешь больно, Кэти.
– Я хотела тебя кое о чем спросить, зайка. Кого я вижу за твоей спиной?
– Это всего лишь маленький Ден, Кэти. Он уже бывал тут раньше.
– Да, но за ним есть еще кто-то – я его вижу очень неотчетливо.
– Я вижу только того, кто позади меня, Кэти. Вот такую историю рассказывала ирландка, Денни. Много их было. Знаешь, не слишком-то хорошо заставлять людей говорить то, что им говорить не хочется.
– Я знаю еще одну шутку, Ханна. Скажи «три».
– Сам сопли подотри, маленький негодник.
– Ты так и не рассказала мне про индейцев.
– Ну, я же не Буффало Билл[18], Денни. Это единственные индейцы, которых я видела за всю жизнь, не считая тех случаев, когда я была взрослой женщиной и приезжал цирк. Они были здесь последними индейцами.
– Расскажи.
– У них был маленький домик. Не островерхий шатер, как в книжках, а домишко из палок, покрытый снаружи корой. Такой крохотный, что взрослому человеку пришлось бы встать на четвереньки, чтобы попасть внутрь, и мой отец никогда туда не заходил, но я пробралась, пока он торговался с индейцем, и внутри сидела индианка – у костерка, дым из него поднимался через дырку в крыше, – а у нее на коленях лежал индейский младенец; на куске настоящей мягкой кожи, сам в чем мать родила. У стены валялась Библия, – видать, оставил какой-то миссионер, – а еще я увидела пучок перьев и немного дров; больше во всем доме не было ничего. У индейца, который разговаривал с папой снаружи, были пистолет и нож. Индианка даже не взглянула на меня, просто сидела и раскачивалась взад-вперед, держа ребенка на коленях; тот не двигался, может, вообще умер… такой кроха… Потом я рассказала папе про индианку, и он решил, что та, вероятно, напилась.
Не сомневаюсь, что напилась, но у индейца-то нож есть, а у меня нет, и доктор Ван Несс велел больше двигаться. Я всегда сомневался, что правильно начертил планы этого дома; таков изъян строительства в пожилом возрасте и переезда в новое жилище после того, как множество старых уже закрепились в мозгу и стали частью его пейзажа, смахивая на романтичные древние развалины с картин девятнадцатого века, где из осыпающихся трещин растут кусты и даже кедровые деревца. Помню, Элеонора Болд как-то рассказывала, что розу сорта «бель амур» нашли растущей из стены разрушенного монастыря в Швейцарии; стены этих старинных домов в моем воображении именно таковы: гниют и осыпаются, но в то же время ощетинились шипами и пестрят удивительными цветами, и корни всего живого, что в них поселилось, связывают камни крепче, чем это когда-либо удавалось строительному раствору и штукатурке.
Кроме того, я совершил ошибку, когда компания наконец оказалась в моих руках и у меня появилось достаточно средств: я воссоздал – или почти воссоздал – некоторые хорошо известные мне комнаты и наполнил мебелью, полученной в наследство. Было бы лучше – и я вполне мог себе это позволить – восстановить сами дома или скупить участки, на которых они стояли (многое снесли, освобождая место для третьеразрядных квартир и парковок), и построить заново. Тысячи старых фотографий могли бы послужить руководством для строителей, и, конечно, я без труда подыскал бы бездетных пар со старомодными привычками, которые были бы счастливы поддерживать и лелеять эти владения в обмен на скромную арендную плату.
Но я оплошал, и теперь в моем доме функциональные комнаты перемежаются с «музейными»; стоит попытаться вспомнить, где расположены последние – или, если уж на то пошло, где лестницы или чулан, в котором я когда-то держал зонтик, – как я теряюсь в лабиринте безымянных картин и дверей, открывающихся в никуда. «Грязь занесла следы веселых игр; тропинок нет в зеленых лабиринтах»[19]. (Помню, как архитектор разворачивал синие чертежи на столе в обеденном уголке моей маленькой квартиры, и случалось это неоднократно, поскольку изменениям и совещаниям – как тогда казалось – не было конца. Помню квадраты и прямоугольники, которым предстояло стать комнатами, как архитектор снова и снова говорил мне, что комнаты без окон будут темными, – точнее, мы предусмотрели для них окна в соответствующих местах, всегда прикрытые шторами или ставнями, рассеивающими свет; или загороженные разрисованными ширмами, потому что тетя Оливия так загородила некоторые окна у себя дома, подражая, как мне думается, Элизабет Барретт; или открывающийся из них вид будет декорацией, как в кукольном театре. Но я не помню их расположения относительно этой длинной закрытой веранды, в которой обитаю, не помню даже, на каком они этаже. Наверное, мне следовало бы выйти на улицу и, если получится, обойти весь дом, заглядывая в окна, как вор, отмечая нанесенный зимой ущерб. Но это кажется избыточным и чрезмерным для человека, который только и мечтает о том, чтобы побродить по собственному дому, а не вести себя так, словно попал в «комнату смеха» на ярмарке, где все стены если не стеклянные, то зеркальные.)